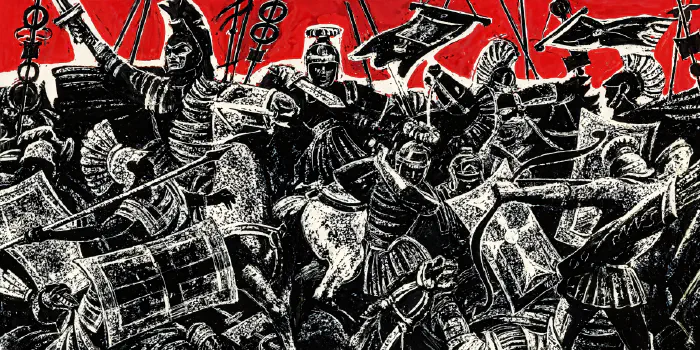«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов.
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов».
К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической партии».
"…когда опыт не накапливается, как это бывает у дикарей, младенчество длится бесконечно. Тем, кто не помнит прошлого, придется повторять его ошибки".
Дж. Сантаяна, «Причина жизни».
Введение
Что такое исторический материализм?
Для большинства людей история — отвлеченная академическая наука. Она служит для интеллектуального развлечения или преподает нам моральные уроки. Больше история ни на что не годится. Даже моральная польза ее ограничена. Великий английский историк Эдвард Гиббон заметил: «История — это немногим больше, чем просто перечень преступлений, безумств и неудач человечества». Гегель остроумно добавил, что история учит нас только тому, что ничему не учит. Тем не менее, история может дать нам много полезных уроков. Перефразируя слова американского философа Джорджа Сантаяны, «тот, кто не извлекает уроков из истории, обречен повторять древние ошибки».
До тех пор, пока Маркс не создал теорию исторического материализма, историю толковали в идеалистическом смысле, приписывая все события воле и деяниям отдельных личностей. Ключом к истории были поступки королей, политиков, генералов и гениев. Однако, стоя на такой позиции, понять историю невозможно. Людьми движет несметное количество побудительных мотивов: личные амбиции, религиозный фанатизм, экономические интересы, творческие искания, политические интриги, месть, зависть, ненависть — весь обширный диапазон эмоций, предубеждений и воззрений, известных людям. При таком немыслимом и необъятном спектре интересов и стремлений, кажется невозможным установить общие исторические законы — как невозможно определить точное положение и импульс субатомной частицы.
Как ни странно, многие, признавая научную познаваемость целой вселенной, в то же время отвергают возможность рационального понимания действий и развития человека. Они убеждены, будто человек — настолько уникальное существо, человеческий мозг настолько сложен, а побуждения настолько тонки, что любая попытка проанализировать законы человеческого развития невозможна в принципе. Это представление сродни древнему мифу, что Человек — исключительное создание, порожденное Всемогущим Богом, и нелепой мистической идее о бессмертной душе, которая есть у людей, но отсутствует у животных.
На самом деле, любой студент-историк сразу скажет, что существуют определенные исторические закономерности, некоторые ситуации постоянно повторяются, и даже при схожих условиях появляются определенные характеры. В своей книге «Большевизм на пути к революции» я отмечал этот факт: «Между Октябрьской Революцией в России и большинством буржуазных революций прошлого существует много схожего. Временами эти параллели кажутся просто фантастическими, распространяясь даже на отдельные драматические персонажи — например, сходство английского Карла I, французского Луи XVI и Николая II, женатых на иностранках».1 И таких примеров множество. Сходные психологические черты Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта не раз отмечались историками. Этих персонажей разделяет огромное время, они жили в обществах с разными социально-экономическими моделями, выражали интересы различных классов. Почему же у них так много общего?
Тут можно провести примерную аналогию с законами, которые управляют морфологией животного мира. Рассмотрим трех различных морских животных: (1) ихтиозавра, (2) акулу и (3) дельфина. Первый был своего рода морским динозавром, вторая — примитивная рыба, а третий — млекопитающее, как и человек. Их разделяют огромные временные пространства, и развивались они совершенно отдельно друг от друга. И, тем не менее, внешний вид всех троих практически одинаков. Из одного этого примера можно заключить, что одинаковые условия приводят к сходным результатам, и этого применимо не только к животному миру, но и к истории развития человечества.
Постоянное повторение одних и тех же образцов (зачастую даже одних и тех же характеров) доказывает, что история не произвольна; что за кажущимся хаосом кроются определенные исторические законы, которые и творят историю. Эти исторические законы создают историю подобно невидимым течениям в океане, отражающимся на поверхности хаотичным движением волн. Для того, чтобы выработать рациональное понимание истории, необходимо заглянуть под внешний покров и исследовать природу подводных течений, двигающим вперед человеческое общество.
Вся наука основана на двух постулатах: что мир существует независимо от наших чувств и что люди способны познать его природу. Если наука в состоянии объяснить механизмы, которые управляют социальной организацией пчел, муравьев и шимпанзе, почему же она не может объяснить, как работает человеческое общество и какие силы им движут? Марксизм отрицает видение истории как последовательности бессмысленных и необъяснимых событий. Исторический материализм утверждает, что у истории человеческого общества есть свои собственные законы, и их возможно анализировать и постичь. Законы, управляющие социальным развитием, впервые сформулировал Карл Маркс. В своем введении к «Критике политической экономии» он так объяснял принципы исторического материализма:
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы».2
Этими словами основоположник научного социализма раз и навсегда покончил со всеми метафизическими, идеалистическими и субъективными объяснениями истории человечества. Другими словами, Маркс совершил такой же прорыв в понимании человеческой истории, какой его великий современник Чарльз Дарвин сделал в понимании процессов эволюции животного и растительного мира. Дарвин обнаружил в естественном отборе объективный процесс, существующий в природе и объясняющий развитие всего живого на земле без вмешательства каких-либо сверхъестественных сил. Тем самым он изгнал бога из биологии, так же как в свое время Ньютон изгнал его (возможно, сам того не желая) из космогонии.
Огромная заслуга Маркса состояла в том, что он обнаружил главную движущую силу всех социальных изменений и прогресса — развитие производительных сил: сельского хозяйства, промышленности, науки и техники. Конечно, это не значит, что все сводится лишь к голой экономике, как мнят безграмотные критики Маркса. Люди сами творят свою историю — но при этом они не свободны от существующих условий, формирующих их сознание и, понимают люди это или нет, определяющих их дальнейшие действия. В том же «Введении» Маркс так объясняет истинную природу взаимосвязи между развитием производительных сил, основанными на них социальными отношениями и классовой борьбой, выражающей противоречивую природу этой связи:
«При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественнонаучной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления».3
Классовая борьба
В этих кратких словах с предельной четкостью выражена сущность метода исторического материализма. Изменения в экономическом базисе являются главной причиной крупных исторических переворотов, называемых революциями. Между экономическим базисом и надстройкой (сложной структурой, включающей религию, идеологию и, как следствие, государство) царят не механистические и простые отношения, а чрезвычайно сложные и противоречивые. Люди, являющиеся главными действующими лицами истории, зачастую не осознают причин и результатов своих действий. Результат их деятельности может радикально отличаться от субъективных намерений творцов.
Когда Брут и Кассий обнажили кинжалы, чтобы убить Юлия Цезаря, они полагали, что тем самым восстанавливают республику, но на самом деле это покушение покончило с остатками республиканизма и подготовило почву для Империи. Их республиканские иллюзии были всего лишь сентиментальными и идеалистическими фиговыми листками, прикрывающими истинные классовые интересы привилегированной римской аристократии, которая господствовала в старой республике и боролась за сохранение своих привилегий. На этом примере мы ясно видим необходимость отличать слова, и даже мысли людей от их реальных интересов, которые и определяют их действия.
Маркс говорил, что история классового общества — это история классовой войны. Суть государства — группа вооруженных людей, чья цель состоит в том, чтобы регулировать классовую борьбу и удерживать ее в приемлемых рамках. Во все нормальные исторические эпохи правящий класс контролировал государство. Но в определенные периоды классовая борьба достигала такой интенсивности, что выходила за «нормальные пределы». В такие революционные времена вставал вопрос о власти: либо революционный класс уничтожит старое государство и заменит его новой властью — либо правящий класс подавит революцию и установит диктатуру — государственную власть в ее самом неприкрытым виде, без каких-либо «демократических» одеяний.
Впрочем, иногда события могут развиваться по-иному. Энгельс отмечал, что государство в обычное время — государство правящего класса, и это совершенно верно. Тем не менее, история знает периоды такого классового противостояния, когда ни один из противоборствующих классов не может установить свою власть. Длительное противостояние, которое не приводит ситуацию к какому-либо однозначному решению, может истощить силы основных классовых противников. В таком случае государственный аппарат — непосредственно представленный в форме армии и ее военачальника (Цезаря, Наполеона) — может подмять под себя общество и предстать как «независимая» сила.
Выработка правовых норм, регулирующих борьбу классов, ни в коем случае не гарантирует мирного исхода. Напротив, эти юридические нормы лишь оттягивают решающее столкновение, чтобы после придать ему более взрывной и острый характер. Недовольство масс усиливается и концентрируется, а цели предстают еще отчетливей. В наши дни у масс есть огромные иллюзии в отношении своих парламентских представителей и возможности решать свои самые острые проблемы путем голосования. В конце концов, подобные иллюзии рассеиваются, борьба выплескивается за стены парламента в еще более ожесточенной форме, чем прежде — массы заполняют улицы, а правящий класс готовит заговоры и перевороты под прикрытием демократических институтов. И хотя правящий класс неустанно твердит о «демократии» — он терпит ее лишь до тех пор, пока она не угрожает его власти и привилегиям.
Когда противоборствующие классы не могут добиться какого-либо исхода своей борьбы, когда классовое противоборство достигает определенного равновесия, государство может выйти на арену как самостоятельная политическая сила и встать над обществом. История Древнего Рима не является исключением. Теоретически Римская республика была «демократией» — в том понимании, что ее граждане обладали правом голоса, а власть принадлежала народному собранию4, и все решалось на свободных выборах. В действительности же республикой заправляла олигархия из богатых аристократических родов, которые непосредственно и осуществляли политическую власть. Итогом этого противоречия стал длительный период классовой борьбы, достигшей наивысшей точки во время гражданской войны, в конце которой армия смогла подмять под себя общество и стать хозяйкой его судьбы. Военные авантюристы боролись друг с другом за власть. Типичным их представителем был Гай Юлий Цезарь. Сегодня это явление известно как бонапартизм. В древности оно принимало форму цезаризма.
В наши дни подобное явление проявляется в бонапартистских и фашистских режимах. Государство поднимается над обществом. Правящий класс вынужден передавать политическую власть сильному лидеру, который, для защиты их интересов, концентрирует в своих руках все полномочия. Его окружает камарилья воров, коррумпированных политиканов, карьеристов, жадных до власти и богатств, и прочее человеческое отребье. Естественно, что вся эта свора ожидает вознаграждения за свои услуги, и никто не должен оспаривать их право на него. Правящий класс все еще остается собственником средств производства, но государственный аппарат уходит из его рук. Чтобы защитить себя, ему приходится терпеть унижения и оскорбления от «национального лидера» и его клевретов — и даже более: приходится с утра до ночи петь ему осанну, в глубине души посылая проклятья.
Такая ситуация возникает лишь тогда, когда классовая борьба заходит в тупик, и ни одна из сторон не в силах одержать победу. Правящий класс не может больше управлять по-старому, а пролетариат не в силах завершить революционный переворот. История Римской республики — чистейший тому пример. В древнем Риме ожесточенная классовая борьба окончилась поражением борющихся классов и взлетом единовластия, в конечном счете, переросшего в Империю.
История Рима
Древняя история
Вся история Римской республики — это история классовой борьбы, начиная с борьбы между патрициями и плебеями за право занимать государственные должности и распоряжаться государственными землями. Распад родоплеменного общества привел к появлению антагонистических классов и началу гражданской войны между плебеями и патрициями, затянувшейся на 200 лет. В конце концов, благородные роды слились с новым классом крупных землевладельцев, рабовладельцев и ростовщиков, которые постепенно экспроприировали земли свободного римского крестьянства, обнищавшего из-за службы в армии. Бесплатный труд крупных масс рабов породил огромные имения (латифундии) и привел, в конечном счете, к обезлюдению Италии, гибели республики, императорской власти, краху Империи и средневековому варварству. Как отмечал Энгельс:
«В рамках этого нового строя, который получил свое дальнейшее развитие лишь после изгнания последнего рекса, Тарквиния Гордого, узурпировавшего подлинную царскую власть, и замены рекса двумя военачальниками (консулами), облеченными одинаковой властью (как у ирокезов), — в рамках этого строя развивается вся история Римской республики со всей ее борьбой между патрициями и плебеями за доступ к должностям и за участие в пользовании государственными землями, с растворением в конце концов патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных магнатов, которые постепенно поглотили всю земельную собственность разоренных военной службой крестьян, обрабатывали возникшие таким образом громадные имения руками рабов, довели Италию до обезлюдения и тем самым проложили дорогу не только империи, но и ее преемникам — германским варварам».5
Происхождение Рима покрыто мраком. Можно, конечно, вспомнить легендарного Энея, который бежал из горящей Трои. Как нередко было со многими древними племенами, этот миф стал попыткой приписать себе благородную и прославленную родословную. Столь же мифологическое имя основателя Рима — Ромул — означает просто «римлянин» и поэтому ничего не может нам сказать. Согласно традиционной истории, дата основания Рима — 753 г. до н. э. Но она противоречит археологическим свидетельствам.
Самый известный историк раннего Рима, Тит Ливий, в своих трудах смешивает подлинную историю с массой легенд, предположений и мифов, из которых практически невозможно выделить правду. Однако эти мифы имеют важное значение, потому что дают нам некоторые подсказки. Сравнивая литературные источники с данными современной археологии, используя лингвистический анализ и другие научные методы, вполне возможно восстановить приблизительную историю Рима. Скотоводческая экономика этих племен, скорее всего, соответствует истине, так как она соответствует всему тому, что мы знаем об экономическом способе жизни других латинских племен, хотя к началу первого тысячелетия они уже практиковали сельское хозяйство и применяли легкий плуг.
В начале первого тысячелетия до нашей эры одна из этих скотоводческих групп мигрировала в области Горы Альба (Monte Cavo), приблизительно в тринадцати милях к юго-востоку от Рима, и построила здесь, на берегу Тибра первое поселение. Эта область имела большое экономическое значение. Географическое положение Рима на берегу реки, делящей Апеннинский полуостров пополам, было благоприятно для контроля над всей территорией Италии. Через него шли торговые пути с севера на юг, и с юга на север.
К югу от Рима находятся плодородные пахотные земли Кампаньи, орошаемые двумя реками и дающие большие урожаи (до трех урожаев в год) зерновых культур. Рим также контролировал крайне прибыльную торговлю солью, добываемой на соляных выработках по берегам Тибра. Важность этого товара в древнем мире была беспрецедентна.
Мы до сих пор еще говорим «в этом вся соль». Для Древнего Рима это было самое буквальное выражение. Слово «зарплата» (англ. salary) происходит от латинского «соль» — salarium, объединяющего понятия соли и солдат, хотя точный смысл его не совсем ясен. По одной из теорий, слово «солдат» происходит от латинского названия соли. Римский историк Плиний Старший в своей «Естественной истории» сообщает, что первоначально с солдатами расплачивались солью, откуда и берет начало слово «зарплата» — sal dare — давать соль6. Более вероятно, что salarium был или пособием, выплачиваемым римским солдатам для закупок соли, или оплатой солдат, охраняющих Соляные дороги, шедшие к Риму для транспортировки соли.
Безотносительно того, какая из этих версий верна, не подлежит сомнению огромная роль, которую играли для Рима соль и соляная торговля, и которая позволила римлянам возвыситься над другими племенами. Изначально римское общество представляло собой объединение родов, которые боролись с соседними народами (латинами, этрусками, сабинянами и др.) за свою территорию.
Раннее римское общество
Согласно Ливию, Рим основали пастухи, возглавлявшиеся вождями. Он приводит названия древних римских племен — рамны, тиции, луцеры — о которых сегодня мало что известно. Первое объединение, согласно легенде, насчитывало сто латинских родов (лат. gentes), объединенных в одно племя; вскоре к ним присоединилось племя самнитов, в котором также было сто родов, и, наконец, еще одно смешанное племя в сто родов. Таким образом, скорее всего население Рима было смешанным. Это было естественным следствием географического положения города и многолетних войн. Коренные римляне долгое время смешивались с другими племенами и смогли объединить окрестных жителей в общее государство.
Никто не мог стать гражданином Рима, не будучи членом определенных курий и триб. Десять родов формировали курию (греки называли такое объединение «фратрией»). Каждая курия имела собственные религиозные обряды, святыни и жрецов. Десять курий формировали трибу, у которой — вероятно, как и у остальных латинских племен — изначально были выборные вождь и жрец. Эти три первоначальных трибы и сформировали римский народ — Populus Romanus. В древние времена у римских родов были следующие особенности:
- Взаимное право наследования членов рода — имущество оставалось внутри рода.
- Общее место погребения.
- Общее отправление религиозных обрядов (sacra gentilitia).
- Запрет внутриродовых браков.
- Общее владение землей. В первобытную эпоху земля принадлежала всему роду, но впоследствии ее разделили отдельные семьи. Однако мы еще и позднее находим земельные владения, принадлежащие родам, не говоря уже о государственной земле, вокруг которой вращается вся внутренняя история республики.
- Обязанность членов рода оказывать друг другу защиту и помощь. Во время второй Пунической войны роды объединялись для выкупа своих пленных сородичей; сенат запретил им это.
- Право носить родовое имя.
- Право принимать в род чужаков.
- Право выбора и смещения старейшин — нигде не упоминается. Однако в ранний период римской истории любое должностное лицо либо избиралось, либо назначалось избранным вождем. Жрецы курий избирались всеми, так же как и старейшины.
Скорее всего, первоначально общественными делами управлял сенат (совет старейшин, от лат. senex, старик). Он состоял из старейшин трехсот родов. Именно потому их называли «отцами» (patres), откуда и пошло наименование патрициев. Отсюда наглядно видно, как изначальные патриархальные отношения старой эгалитарной системы постепенно создали привилегированную племенную аристократию, которая кристаллизовалась в касту патрициев — правящий класс древнеримского общества. Энгельс писал об этом:
«Вошедшее в обычай избрание старейшин всегда из одной и той же семьи каждого рода создало и здесь первую родовую знать; эти семьи назывались патрициями и претендовали на исключительное право входить в состав сената и занимать все другие должности. Тот факт, что народ со временем позволил возобладать этим притязаниям и они превратились в действующее право, нашел свое выражение в сказании о том, что Ромул пожаловал первым сенаторам и их потомству патрициат с его привилегиями. Сенат, как и афинский bule, имел право принимать окончательные решения по многим вопросам и предварительно обсуждать более важные из них, в особенности новые законы. Последние окончательно принимались народным собранием, которое называлось comitia curiata (собрание курий). Народ собирался, группируясь по куриям, а в каждой курии, вероятно, по родам; при принятии решений каждая из тридцати курий имела по одному голосу. Собрание курий принимало или отвергало все законы, избирало всех высших должностных лиц, в том числе rex‘a (так называемого царя), объявляло войну (но мир заключал сенат) и в качестве высшей судебной инстанции выносило окончательное решение по апелляции сторон во всех случаях, когда дело шло о смертном приговоре римскому гражданину.
Наконец, наряду с сенатом и народным собранием имелся реке, который точно соответствовал греческому басилею и отнюдь не был, как его изображает Моммзен, почти абсолютным монархом. Он тоже был военачальником, верховным жрецом и председательствовал в некоторых судах. Полномочиями в области гражданского управления, а также властью над жизнью, свободой и собственностью граждан он отнюдь не обладал, если только они не вытекали из дисциплинарной власти военачальника или власти главы судебного органа в отношении приведения приговора в исполнение».7
Деление на патрициев и плебеев не был исключительно разделением на богатых и бедных. Некоторые плебеи смогли стать очень богатыми, но они оставались плебеями и не могли занимать государственных постов, издавна монополизированных клановой аристократией. Древние роды Populus, пытаясь сохранить свои привилегии, не допускали в свои ряды посторонних. По-видимому, земельная собственность была разделена между плебеями и populus, но коммерческие и промышленные средства, хотя еще и слаборазвитые, вероятнее всего, по большей части концентрировалось в руках плебеев. Таким образом, старые родоплеменные правовые нормы вступили в противоречие с изменившимися экономическими и социальными отношениями. Рост числа плебеев и растущая экономическая мощь их верхушки привели к обострению классовой борьбы между плебеями и патрициями, которые доминировали в Риме после изгнания этрусков.
Процесс гибели старого родового общества пока еще не прояснен до конца. Рост богатства в ходе соляной торговли, вероятно, сыграл роль в усилении старой племенной аристократии и расширении пропасти между ней и бедными представителями родов. Одно, несомненно — развитие частной собственности с самого начала породило острые противоречия в обществе. В раннем римском обществе, с его ярко выраженными патриархальными отношениями, все права собственности принадлежали главе семьи. Отец семейства имел самую неограниченную власть над всеми другими членами семьи, которые воспринимались как его частная собственность — этот факт был отмечен еще Гегелем:
«Итак, мы не находим у римлян семейных отношений как прекрасных свободных отношений, основанных на любви и на чувстве, но вместо доверия проявляется принцип суровости, зависимости и подчинения. В сущности, брак в его строгом и формальном виде вполне имел характер вещного отношения: жена принадлежала мужу (in manum conventio), и брачная церемония основывалась на coemtio в той форме, в какой эта формальность могла соблюдаться и при всякой другой покупке. Муж получал право на свою жену, равно как на свою дочь, и в такой же степени и на ее состояние, и все, что она приобретала, она приобретала для своего мужа».8
Старая родовая система первоначально базировалась на общей земельной собственности. Но в результате роста торговли и увеличения богатств, старые социально-племенные отношения стали распадаться. Внутри родов росло неравенство, что вело к выделению привилегированного класса патрициев. Частная собственность настолько сильно утвердилась в обществе, что даже жены и дети расценивались как частная собственность, которой глава семьи (pater familias) управлял железной рукой. Гегель так рисовал отношения между семьей и государством:
«Безнравственной активной суровости римлян в этих частных отношениях необходимо соответствует пассивная суровость их организации для государственных целей. За ту суровость, которая проявлялась к римлянину в государстве, он вознаграждался тою суровостью, которую он проявлял по отношению к своей семье: с одной стороны, он был рабом, с другой — деспотом».9
Новая форма патриархальной семьи, с ее тиранической единоличной властью pater familias, стала отражением изменений в социальных и имущественных отношениях, лежащих в основе римского общества. И постепенно государство, как орган классового господства, возвысилось над обществом. История римской республики суть продолжение и углубление этих тенденций, которые, в конце концов, привели ее гибели.
Этруски
В своей великолепной работе «История русской революции» Лев Троцкий описывает один из важнейших исторических законов — закон комбинированного развития:
«Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на судьбе запоздалых стран. Под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно назвать законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными. Без этого закона, взятого, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России, как и всех вообще стран второго, третьего и десятого культурного призыва».10
Историческое развитие России проходило под влиянием более передовых стран. Долгие контакты и конфликты с менее развитыми половцами и другими кочевыми племенами Степи ничего не привнесли в русскую культуру, сохранив по себе память только в русском языке. Многовековое татаро-монгольское иго, правда, оставило свой отпечаток на российском обществе и особенно на государственном устройстве, с его азиатскими особенностями. Но Россия получила новый импульс к развитию во время войн с более развитыми странами — Польшей и Швецией. Римская история в чем-то похожа на русскую. Культурное и экономическое развитие происходило не в ходе бесконечных войн с варварскими латинскими племенами, а стало результатом тесных контактов с более социально-экономически развитыми народами: этрусками, греками и карфагенянами.
Как правило, отсталые народы впитывают материальные и интеллектуальные достижения развитых стран, хотя этот процесс зачастую принимает самые сложные и противоречивые формы, соединяя элементы крайней отсталости с самыми современными новшествами, заимствованными извне. Все это было присуще и древнему Риму. Как и японцы в более поздние времена, римляне продемонстрировали великолепную способность учиться и воспринимать достижения других народов, хотя эти достижения, попав на римскую почву, приобретали свою местную специфику. Римское искусство началось с копирования греческих оригиналов и до конца не смогло освободиться от греческого влияния. Однако гибкость, свободный и жизнерадостный дух греческого искусства были чужды крестьянской психологии римлян, отягощенной определенной узостью кругозора и восприятия, провинциальным прагматизмом, что нашло свое отражение в римском искусстве и религии.
Первоначально римские боги были простыми крестьянскими божками, хотя и проникнутыми суровым воинским духом. В те времена самым главным в римском пантеоне был Марс. Римляне относились к религии очень практично (как впрочем, и ко всему остальному) и непрерывно присваивали иноземных богов, которые, по их мнению, могли принести пользу. Завоевав очередную землю, римляне захватывали не только сокровища и женщин, но также и основных богов, которые немедленно переносились в Рим, где для них специально строили новые храмы. Этим способом они пытались получить небесную санкцию на захват и перетянуть на свою сторону чужих божеств, чтобы те помогли им в будущих войнах. Таким образом, за определенный срок Рим, помимо награбленных богатств, приобрел множество всевозможных богов, некоторые из которых были весьма оригинальны.
Римляне сумели покорить южные латинские племена, чей уровень социально-экономического развития мало отличался от римского. Но на севере им пришлось столкнуться с более развитым народом: этрусками, которые занимали большую часть Цизальпинской Галлии в Северной Италии. Точное происхождение этрусков еще не выяснено окончательно, так как сохранилось очень мало этрусских литературных источников, а надписи на их памятниках расшифрованы лишь частично. Все наши знания об этрусках — результат археологических исследований их городов, памятников и захоронений. Некоторые историки предполагают, что предки этрусского народа приплыли в Италию из Малой Азии. Другие видят в них исконное население Италии или же семитские племена, родственные финикийцам и карфагенянам. Вполне возможно, что мы никогда не узнаем истины об их происхождении.
Во всяком случае, уже в начале первого тысячелетия до нашей эры они занимали территорию современной Тосканы до реки Арно. После 650 г. до н. э. этруски заняли доминирующее положение в северо-центральной Италии. Согласно традиционной истории, в Риме последовательно правили семь царей, начиная с мифического Ромула, будто бы основавшего город со своим братом Ремом. Двое из последних римских царей, как полагают, были этрусками: Тарквиний Приск (Древний) и Тарквиний Гордый. И хотя этот царский список имеет сомнительную историческую ценность, двух упомянутых принято считать реальными историческими фигурами. Отсюда следует, что в течение столетия Рим находился под этрусским влиянием. Древняя история говорит, что Римом заправляли этрусские цари, а современные археологические находки подтверждают, что в известный период Рим был этрусским городом.
Рим интересовал этрусков по экономическим и стратегическим причинам. К югу от Рима находились сильные и развитые греческие колонии. В древности южную Италию и Сицилию даже называли Великой Грецией (Magna Graecia). Экспансия этрусков проходила через Латинскую область к границам Великой Греции, где они стали создавать свои колонии. Такая политика породила конфликт между этрусками и греками за Лаций. У этрусков не было другой возможности сохранить контроль над Лацием без владения Римом. Но дело было не только в соображениях стратегии: соль, добываемая на берегах Тибра, была крайне необходима для этрусских городов, у которых не было своих источников этого важнейшего товара.
Рим находился в окружении сильных и богатых этрусских городов-государств: Тарквинии, Цере и Веи, и римская культура — именно их заслуга. Эти города находились на более высоком экономическом и культурном уровне, чем римляне, с которыми они вели торговлю и над которыми они доминировали. Более высокий уровень развития, способствовал установлению господства этрусков. Их полисная система напоминала греческую, а культура и искусство находилось под сильным греческим влиянием. Археологи находят этрусское оружие, орудия труда, изящные ювелирные изделия, монеты, статуи из камня, бронзы и терракоты, керамику из черной глины (bucchero). Древнеримские источники ни словом не упоминают о завоевании этрусками Рима, но об этом могли умалчивать из соображений национальной гордости. Так или иначе, этруски взяли город под свой контроль.
До появления этрусков Рим был небольшим полудеревенским поселением, жители которого находились на высшей ступени варварства. В экономической, культурной и технической области этруски оказали огромное влияние на римлян. Позднее только греки южной Италии, смогли оказать большее воздействие. Контакты с более развитыми народами окончательно разрушили старые родоплеменные порядки, породили племенную аристократию, подорвали былую родовую солидарность и подготовили почву к новым порядкам и классовым отношениям.
Полагают, что этруски были отличными инженерами, и им принадлежит заслуга превращения Рима в 670-630 гг. до н. э. из примитивного племенного центра в процветающий город. Традиционно считается, что именно при их владычестве были созданы первые значимые постройки, такие как стены на Капитолийском холме (до этого Рим был простым и беспорядочным скопищем хижин). Именно в этрусский период был построен первый мост через Тибр (Pons Sublicius), избавивший римлян от необходимости пересекать реку вплавь. Тогда же была создана Cloaca Maxima — внушительная канализационная и водопроводная система.
Собрание и сенат
Римляне, в конце концов, смогли изгнать последнего этрусского правителя Тарквиния Гордого. Называть его «царем» не вполне правильно. Энгельс отмечает, что латинское слово «царь» — rex — тождественно кельтско-ирландскому righ (племенной вождь) и готскому reiks, означающим главу племени:
«Должность рекса не была наследственной; напротив, он сначала избирался, вероятно, по предложению своего предшественника по должности, собранием курий, а за тем во втором собрании торжественно вводился в должность. Что он мог также быть смещен, доказывает судьба Тарквиния Гордого.
Так же, как и у греков в героическую эпоху, у римлян в период так называемых царей существовала военная демократия, основанная на родах, фратриях и племенах и развившаяся из них. Курии и племена были, правда, отчасти искусственными образованиями, но они были организованы по образцу подлинных, естественно сложившихся форм того общества, из которого они возникли и которое еще окружало их со всех сторон. И хотя стихийно развившаяся патрицианская знать уже приобрела твердую почву под ногами, хотя рексы старались расширить мало-помалу свои полномочия, все это не меняет первоначального основного характера строя, а в этом все дело».11
Если верить легенде, последний римский «царь» Тарквиний Гордый был изгнан римлянами. Возможно, он попытался превратиться из традиционного племенного вождя в полновластного самодержца, и это пришлось не по нраву римской аристократии. В любом случае, ясно одно — что восстание против владычества этрусков совпало с кризисом самой этрусской державы. Как мы уже отмечали, продвижение этрусков на юг вызвало конфликт с богатыми и сильными греческими городами-государствами. Это столкновение оказалось для них фатальным. После некоторых первоначальных успехов Этрурия потерпела разгром, и ее могущество стало меркнуть. Именно это ослабление этрусков и позволило римлянам около 500 г. до н. э. организовать победоносное восстание против этрусского владычества и добиться независимости. Это стало первым шагом к их последующему могуществу.
Именно тогда римляне отказались от монархии в пользу республики. Изгнание последнего «царя» привело к реформе власти: вместо него стали выбирать двух консулов, имеющих равные полномочия. Новое государственное устройство опиралось на сенат, состоящий из городской аристократии, и на народное собрание, которое гарантировало участие в политической деятельности большинству римских граждан. Также ежегодно избиралась судебная власть. Государство состояло из свободных граждан несших военную службу.
Власть избранных консулов была практически неограниченной (imperium). Они командовали армией, писали законы и следили их за исполнением. Но их полномочия были ограничены двумя моментами: во-первых, их избирали всего на один год; во-вторых, каждый из них имел право наложить вето на решение другого. В теории сенат не обладал никакими исполнительными полномочиями. Это был совещательный орган, который консультировал консулов по вопросам внутренней и внешней политики, по финансовым и религиозным вопросам, сенаторы и консулы принадлежали к одному и тому же классу, поэтому они почти всегда действовали в тесном единстве и защищали свои классовые интересы. Фактически, Римом управлял узкий круг аристократов.
Такое устройство лишь закрепило перемены в общественном строе, ставшие фактом к моменту свержения Тарквиния. Старый родовой порядок, основанный на кровных узах, пришел в явное противоречие с новыми социальными и экономическими отношениями. Старый строй совершенно разложился, и на его месте возникло новое государство, построенное на территориальных и имущественных критериях. Новая система выбрасывала на обочину не только рабов, но также и беднейших граждан, лишенных собственности — так называемых пролетариев, — которым было запрещено служить в армии и носить оружие. Помимо этого, народное собрание, внешне вполне демократичное, на деле было лишь фальшивкой, призванной замаскировать реальную власть аристократии.
Все мужское население, обязанное служить в армии, делилось на шесть классов, в зависимости от богатства. Самые богатые — те, кто мог позволить себе приобрести лошадь — составляли конницу. Всадники, представляющие высший класс, имели девяносто восемь голосов — решающее большинство. Они могли принимать решения по своему усмотрению, не оглядываясь на других; достаточно им было договориться между собой, и вопрос был решен. Тит Ливий отмечает:
«Еще меньший ценз оставался на долю всех прочих, из которых была образована одна центурия, свободная от воинской службы. Когда пешее войско было снаряжено и подразделено, Сервий составил из виднейших людей государства двенадцать всаднических центурий. Еще он образовал шесть других центурий, взамен трех, учрежденных Ромулом, и под теми же освященными птицегаданием именами. Для покупки коней всадникам было дано из казны по десять тысяч ассов, а содержание этих коней было возложено на незамужних женщин, которым надлежало вносить по две тысячи ассов ежегодно. Все эти тяготы были с бедных переложены на богатых. Зато большим стал и почет. Ибо не поголовно, не всем без разбора (как то повелось от Ромула и сохранялось при прочих царях) было дано равное право голоса и не все голоса имели равную силу, но были установлены степени, чтобы и никто не казался исключенным из голосования, и вся сила находилась бы у виднейших людей государства. А именно: первыми приглашали к голосованию всадников, затем — восемьдесят пехотных центурий первого разряда; если мнения расходились, что случалось редко, приглашали голосовать центурии второго разряда; но до самых низких не доходило почти никогда».12
Теоретически окончательное решение принимало народное собрание, которое ежегодно выбирало консулов. Но, как и при нынешней буржуазной демократии, где власть избирателей является пустой формальностью (даже более чем в древнем Риме), власть народа (comitia centuriata), как отмечает Майкл Грант, запросто сводилась к нулю:
«Впрочем, собрание с самого начала было устроено так, чтобы зажиточные центурии обладали там большим правом голоса нежели бедняки. Более того, кандидатов в консулы предлагали собранию сенаторы — разумеется, из своих кругов. Правда, собрание утверждало законы, объявляло войну и заключало мир, разрешало споры (iudicia populi). Однако же сенаторы, с высоты своего престижа и богатства, управляли его голосами во всех этих случаях. Потому во многих отношениях юридическая иллюзия демократии вполне компенсировалась ее фактическим извращением».13
Патронат
Был и еще один фактор, подрывавший власть Народного собрания. В пятом веке до н. э. существовало 53 патрицианских рода (gentes) — по крайней мере, столько нам известны; возможно их было и больше. Это был закрытый клуб римских правителей, куда входило не более тысячи семей. Внутри этого клуба сложился еще более узкий кружок самых влиятельных родов: Эмилии, Корнелии, Фабии, позднее — Клавдии. Стало быть, патриции составляли всего одну десятую римского населения, а то и одну четырнадцатую.
Возникает вопрос: как такая крошечная группа людей могла веками властвовать над Римом? В любом обществе правящий класс слишком мал, чтобы осуществлять свою власть без помощи большого слоя зависимых от него иждивенцев. Однако под любым угнетателем всегда есть более мелкие угнетатели, а ниже — еще более мелкие, и прочие нахлебники, которые обслуживают правящий класс. Корни отношений между патронами и клиентами уходят в разделение римского общества на патрициев и плебеев. В сенате заседали главы семейств (patres familias) и другие влиятельные граждане. Частично власть патрициев опиралась на традицию (старые родовые привязанности), частично — на монополии на отправление религиозных обрядов (это были наследственные должности) и право делать жертвенные предсказания и объявлять календарные даты (также религиозная практика), а также на наследственных клиентах.
В Древнем Риме, в дополнение к кровным и семейным узам, существовала широкая система патроната. Богатые и могущественные патроны (patroni) были окружены множеством зависимых от них клиентов (clienti), которые обращались к ним за помощью защитой. Клиент был формально свободным человеком, который поручал себя патрону и взамен получал защиту. Это было похоже на взаимоотношения внутри мафии, своего рода отдаленный исторический предок нынешних преступных кланов. В Древнем Риме такая практика существовала повсеместно. Институт клиентов был наследственным. Обязательства патрона и клиента не регулировались законом, но расценивались всеми как обязательные. Закон середины пятого века до н. э. предает проклятию любого патрона, не способного удовлетворить обязательство его клиентам.
Система клиентелы (clientel) отчасти сглаживала острые противоречия между патрициями и плебеями. Пока патроны оказывали помощь и шли на уступки, многие римляне без споров принимали привилегированную роль патрициев. Но, хотя все клиенты были плебеями, не все плебеи являлись клиентами. Например, иноземные торговцы. Кроме того, полное отстранение плебеев от политической власти представляло постоянный источник недовольства. Низшие классы не могли заседать в Сенате или занимать должность консула.
Большинство плебеев пребывало в бедности — им было не до государственных постов, и этот вопрос их не заботил. Однако для тех плебеев, что смогли разбогатеть, такая обстановка была весьма болезненна. Именно этот слой и становился во главе социального протеста. Их позиция напоминала позицию нынешних профсоюзных реформистов, которые используют рабочее движение как средство личного продвижения. Как говаривал один из вождей британской лейбористской партии: «Я за постепенное освобождение рабочего класса, шаг за шагом, начиная с меня самого». Вся история классовой борьбы полна схожими примерами, от Римской республики до наших дней. Хотя, конечно, не все народные вожди были циничными карьеристами — как тогда, так и сегодня.
Долговое рабство
В те времена человечество всегда жило под угрозой голода. Нехватка зерна ощущалась постоянно. Чтобы предотвратить голод (и отвлечь внимание плебеев), римский правящий класс в 496-493 гг. до н. э. установил культ Цереры (греч. Деметра), богини плодородия. Этот культ по вполне очевидным причинам стал культом плебеев, которые постоянно ощущали нехватку хлеба. Число плебеев, не способных расплатиться с долгами, постоянно росло. Если человек не мог выплатить долг, у него был только один выход — отдать в неволю самого себя. Кредитор «налагал руку» на должника, то есть мог держать его в оковах. Формально должник не считался рабом, но разницы для несчастного было мало. Это было сродни подневольному труду в Вест-Индии XVIII века или сегодняшней Юго-восточной Азии.
Долговое рабство распространялось все шире и шире. «Если должник не исполнял своего обязательства перед государством, то его продавали вместе со всем его имуществом; для удостоверения долга достаточно было того, что он взыскивался государством».14
Когда человек попадал в долговую неволю, у него практически не было возможности вернуть себе свободу. Именно этот вопрос составлял основной классовый антагонизм в первые века Римской республики, и здесь была главная причина слепой ненависти плебеев к патрициям. Эта проблема существовала с самых ранних времен. «История» Тита Ливия приводит много примеров классовой борьбы в ранний период республики:
«Но война с вольсками надвигалась, а государство и само было раздираемо междоусобной ненавистью между патрициями и плебеями главным образом из-за долговой кабалы. Плебеи роптали о том, что вне Рима они сражаются за свободу и римскую власть, а дома томятся в угнетении и плену у сограждан, что свобода простого народа в большей безопасности на войне, чем в мирное время, и среди врагов, чем среди сограждан».15
Он приводит слова старого воина-центуриона, который лишился из-за долгов не только своей земли, но и дома, и скота, а займа все равно не покрыл — и вынужден был пойти в неволю к своему кредитору:
«Долг, возросший от процентов, сначала лишил его отцова и дедова поля, потом остального имущества и, наконец, подобно заразе, въелся в само его тело; не просто в рабство увел его заимодавец, но в колодки, в застенок. И он показал свою спину, изуродованную следами недавних побоев. Это зрелище, эта речь вызвали громкий крик».16
Безденежный народ, как видно, был доведен до крайнего отчаяния. По всему Риму вспыхнул бунт закабаленных должников. Но правящий класс Рима с самых ранних времен научился использовать в своих интересах народных вождей. Примером тому может служить поведение консула Публия Сервилия. Оно чем-то смахивает на позицию нынешних «умеренных» профсоюзных лидеров.
Народное недовольство продолжалось долгое время. Правящий класс ответил на эту угрозу снизу своими обычными методами — комбинацией обмана и репрессий. Вожаки плебеев неизменно были выходцами из разряда римских капиталистов, и неизменно предавали бедноту, когда патриции снисходительно бросали им крохи власти. Последние готовы были идти на уступки богатым плебеям. Они даже позволили представителям этого слоя избираться в сенат.
Американский марксист Даниэль де Леон неплохо описал их положение, сравнив их с современными представителями профбоссов, заседающими в буржуазных парламентах:
«Но там, среди высокородных и надменных патрициев, лидеры плебса должны были застыть в немом благоговении. Патриции спорили, патриции голосовали, патриции решали. Когда дело было сделано, ораторы обращались к плебеям. Но даже тогда им не дозволялось издать ни звука. Рты надлежало держать на замке: мнение выражалось только ногами. Если они топали, это означало одобрение; если нет — неодобрение. Но в любом случае, это почти ничего не значило».17
Каждая новая военная победа, оплаченная кровью бедняков, сближала интересы патрициев и богатых плебеев. Их объединяли общие экономические интересы и страх перед бедными плебеями и пролетариями. А тем жилось все хуже и хуже, росли долги, и ширилось закладное рабство. Неимущие требовали облегчения своего положения. Рост межклассовой напряженности вылился в ряд восстаний, когда плебеи отказывались идти служить в армию, а однажды даже пригрозили, что все они уйдут из Рима и создадут другую республику.
Первая известная забастовка в истории была забастовкой египетских рабочих, занятых на постройке пирамид. Первая всеобщая забастовка, которую мы знаем, произошла на заре римской республики. Именно римские плебеи того времени пахали землю, молотили зерно, пекли хлеб, служили в армии. И они весьма остроумно напомнили об этом патрициям. По крайней мере, пять раз, плебеи угрожали «уходом» из Рима. Проблема патрициев состояла в том, что им было не прожить без плебеев, тогда как плебеи могли прекрасно без них обойтись.
В результате удалось договориться — плебеям разрешили избирать двух народных трибунов (tribuni plebes), которые должны были представлять их интересы, и делить власть с двумя консулами. Это была первая победа плебеев. Народный трибун имел обширные полномочия и мог наложить вето на предложения консулов, в то время как его указания были обязательны. Трибун также имел право опечатать государственную казну и тем самым остановить всю коммерческую деятельность в государстве. Однако сенат, как обычно, нашел выход. Деятельность трибуна никто не оплачивал, и потому занимать этот пост мог только обеспеченный человек. Когда римские капиталисты получали власть трибуна, они, опираясь на плебейские массы, неизменно использовали ее в собственных интересах — для давления на своих аристократических противников.
Новая олигархия
Патриции, как мы видели, вышли из родовой римской аристократии и составили привилегированный класс, который эксплуатировал и угнетал остальную часть населения — плебеев. Приток иммигрантов из других племен отчасти объясняет остроту раскола между патрициями и плебсом в ранней римской истории. Гегель (весьма сведущий в классовых противоречиях римского общества) полагал, будто изначально плебеи этнически отличались от патрициев, и потому те видели в них инородных чужаков:
«Более слабые, более бедные лица, позднее поселившиеся, неизбежно оказывались в униженном и зависимом положении по отношению к основателям государства и к тем лицам, которые отличались храбростью и богатством. Итак, нет надобности прибегать к излюбленной в новейшее время гипотезе, по которой патриции составляли особое племя».18
Возможно, конечно, различия между римскими классами и впрямь объяснялись их этническим происхождением. Но одно бесспорно: за всю историю человечества правящий класс всегда с презрением смотрел на бедные и трудящиеся классы, считал их низшей расой, по самой своей природе не способной управлять государством и промышленностью. Единственным смыслом их жизни должна быть безропотная работа на утопающих в роскоши «избранных», ну и воспроизводство все новых поколений столь же безмолвных рабов. Само слово «аристократия» происходит от греческого слова «лучший», а латинское «пролетарий» означает класс, пригодный только для работы, сродни крестьянскому скоту.
По мере того как большинство населения впадало в нищету, бесчисленные победы и завоевания римской армии сказочно обогащали другой полюс общества. Огромные богатства золотым дождем проливались на новый класс римских капиталистов, многие члены которого были «новыми римлянами» — выскочками из плебейских семей, на возвышение которых горько сетовали представители старого римского нобилитета. Первоначально старая аристократия еще пыталась «держать ряды», защищая свои привилегии под знаменем «спасения консулата от плебейской скверны». Однако, в конце концов, патрициям пришлось подвинуться и примирится с нуворишами (nouveaux riches), чтобы объединить свою политическую власть с их богатством.
Несмотря на острый конфликт между верхушкой плебеев и старой аристократией, обе эти социальные группы были крупными собственниками, и у них было гораздо больше общего друг с другом, чем с огромной и нищей плебейской массой. Постепенно старая аристократия сообразила, что народные трибуны — неплохое подспорье для управления простым народом, видевшему в них своих заступников. Лидеры плебеев, опираясь на массы, могли добиваться уступок от патрициев, а те в свою очередь были достаточно гибки, чтобы соглашаться на уступки и реформы во имя сохранения своих классовых привилегий. Этот процесс привел к созданию новой олигархии.
Плебейская агитация привела к ряду реформ. В 471 г. до н. э. сенат вынужден был принять закон об учреждении специального совета, состоящего исключительно из плебеев (concilium plebis). Он должен был созываться трибунами, и имел право принимать определенные меры (plebiscita). Но это была еще одна уловка богачей, так как у принятых этим органом решений не была статуса закона. В то время Рим еще не имел писаного законодательства. Правовые обычаи толковались Советом жрецов (pontifices), состоявшим лишь из патрициев. Этот закон был принят в обстановке войны, голода и мора, вся тяжесть которых легла на плечи мелких земледельцев. Ни одна из экономических проблем бедных плебеев не была решена. Центральной проблемой был вопрос об общественной земле (ager publicus), которую патриции хотели присвоить, а плебеи требовали разделить между всеми бедными гражданами.
Такая обстановка вылилась в новый всплеск разногласий между трибунами и консулами в 451 г. до н. э., завершившийся учреждением децемвирата (Совета Десяти). Двое из десяти децемвиров были богатыми плебеями. Но в целом это был орган патрициев. В итоге Рим получил первый свод писаного права — так называемые «Законы двенадцати таблиц», которые были выставлены на Форуме для всеобщего обозрения. Принято считать это поворотным моментом в римской истории и большим прогрессом в развитии демократии. Но на деле же этот акт лишь законсервировал фундаментальные социальные и политические отношения, ни на йоту их не изменив.
Долговое законодательство смягчилось незначительно. Выплата долга отсрочивалась на 30 дней, в течение которых кредитор был обязан «соответственно» кормить должника. Но это не меняло дела, так как должник все равно был не в состоянии выплатить долг, а кредитор все еще мог закабалить (nexus) должника. В XII таблицах эти жесткие законы впервые оказались, так сказать, «увековечены в камне» (на самом деле таблицы были деревянными). Это был вернейший рецепт для ожесточения классовой борьбы в Риме, которая в дальнейшем достигла невероятного накала.
Ниспровержение децемвирата
Внутренние волнения и гражданская борьба, порождаемые конфликтом между плебсом и патрициями, сменились временным перемирием. Но оно было нарушено, когда трибуны попытались ограничить консулов в их праве наказывать плебеев. Патриции расценили это как покушение на их наследственные права. Разгорелась длительная и ожесточенная борьба.
В 452 г. до н. э., после избрания децемвирата, был достигнут компромисс. Децемвиры учредили римские законы, известные как «Законы XII таблиц», определяющие принципы римского права. На время работы децемвиров были отменены все гражданские свободы, а решения децемвирата не подлежали обжалованию. Первоначально все децемвиры были патрициями.
В 450 г. до н. э. патриции пошли на уступки, введя в децемвират несколько представителей плебса, но это ничего принципиально не решило, так как преобладали среди децемвиров все равно патриции. Крестьянство стремительно беднело из-за непрекращающихся войн. Им все чаще приходилось влезать в долги к патрициям. А чтобы отдать долг, нередко приходилось идти в кабалу к своим кредиторам. Децемвиры не сумели разрешить ни одну из проблем римского общества, однако они все сильней укрепляли свою тиранию. Последовали многочисленные казни, водворилась жестокая олигархия, от которой страдали главным образом плебеи (патриции большей частью были ею довольны). В конце концов, когда срок полномочий децемвирата истек, его члены отказались покинуть свой пост и передать власть своим преемникам.
Подобное поведение децемвиров поставила страну на грань гражданской войны. Наконец, в 449 г. до н. э. разразилось восстание. Поначалу правящий класс обратился к старой тактике затягивания решения вопроса. В ответ на эти бесконечные и бесплодные пересуды, плебейские массы пошли на радикальные меры. Возглавляемые бывшим трибуном Марком Дуиллием плебеи скопом покинули город и расположились на Священной горе. Граждане выдвинули ультиматум: они готовы были вернуться при условии, что трибунам вернут прежнюю власть. Тит Ливий красочно описывает происходящее:
«За войском отправились остальные плебеи: дома остались лишь немощные старики. Следом шли жены и дети, жалобно причитая, на кого их оставляют в городе, где не святы ни целомудрие, ни свобода. Обезлюдевший Рим превратился в пустыню, на форуме не было никого, кроме нескольких стариков. И вот когда собравшиеся на заседание сенаторы увидали опустевший форум, многие из них, а не только Гораций с Валерием, стали громко выражать недовольство: «Чего еще вы ждете, отцы-сенаторы? Децемвиры не желают покончить со своим упрямством, а вы намерены допустить, чтоб все было предано огню и разрушению? А вы, децемвиры? Что же это за власть, за которую вы так крепко держитесь? Или вы собираетесь вершить суд над крышами и стенами?»19
Ситуация была просто невероятной. Город, совсем еще недавно напоминавший муравейник, опустел в один миг. Можно легко вообразить завод без капиталистов, но завод без рабочих — картина фантастическая. То же самое верно и для древнего Рима. Правящий класс был в панике. Испугавшись остаться без народа, который выполнял всю работу в мирное время и сражался во время войн, децемвират пошел на попятный. Так было и есть всегда: встав перед перспективой потерять все, правящий класс всегда будет готов отдать часть. Итак, угроза образумила патрициев, и те попытались погасить конфликт с помощью компромисса:
«Эти слова, раздававшиеся со всех сторон, заставили децемвиров подтвердить, что, раз так, они подчиняются сенату и признают себя побежденными его единодушием. Они заклинали лишь о том, чтобы их уберегли от людской ненависти и пролитием их крови не приучали плебеев к тому, что патрициев можно казнить».20
Уступки со стороны правящего класса всегда есть результат их страха. Людям вернули право на избрание трибунов, что вызвало панику среди патрициев. Ливий пишет: «Великий страх обуял патрициев, перед которыми трибуны явились в том же обличье, что и децемвиры…»21
Трибуны действительно приняли ряд мер против особо ненавидимых патрициев, таких как Аппий Клавдий — самый ярый реакционер, который возглавлял противников закона Публилия. Во время войны с вольсками он казнил каждого десятого солдата в своих легионах. Трибуны Марк Дуиллий и Гай Сициний отдали его под суд. Понимая неизбежность смертного приговора, Аппий сам лишил себя жизни.
Однако правящий класс зря волновался. Большинство трибунов были похожи на наших современных реформистов. Речь Дуиллия — хороший пример этому:
«…народный трибун Марк Дуиллий благоразумно пресек это чрезмерное своевластие. «Врагам, покушавшимся на нашу свободу, мы отплатили сполна, — сказал он. — И потому в этом году я не позволю, чтоб хоть кто-нибудь был вызван в суд или препровожден в темницу. Ибо в другой раз не взыщешь за старые и уже забытые прегрешения, после того, как и новые искуплены казнью децемвиров, а неустанная забота обоих консулов, охраняющих вашу свободу, служит залогом того, что вмешательства трибунов не потребуется».22
Как говорит Тит Ливий дальше:
«Сдержанность трибуна сразу избавила патрициев от страха, но зато заронила в них ненависть к консулам, которые казались им всецело преданными плебеям, так что о благополучии и свободе патрициев больше пеклись плебейские должностные лица, чем патрицианские, и даже своими карами трибуны пресытились прежде, чем консулы собрались воспротивиться их произволу».23
До чего же эти слова похожи на слова современных оппортунистов! Они точно передают психологию и настрой тех, кто пытается быть посредником в классовом противоречии, неизменно предавая интересы бедных и угнетенных, чтобы занять сторону богачей и властителей.
Храм Согласия
Как уступка плебеям (т. е. богатым представителям плебеев — римским капиталистам), было принято решение, что один консул будут избираться из числа плебеев. В 351 г. до н. э. плебея выбрали цензором, а впоследствии решено было избирать цензорами только плебеев. К тому времени патриции поняли, что для контроля над массами, лучше всего подкупать их вожаков, пропуская некоторых из них в святая святых власти. Примерно тогда же в Риме был воздвигнут новый храм — Храм Согласия. Известное согласие к этому времени действительно было достигнуто, но отнюдь не между богатыми и бедными. Майкл Грант пишет:
«Следствием этих перемен стало рождение нового правящего класса, нобилитета — состоящего теперь не только из патрицианской аристократии, но также из плебеев, среди предков которых были консулы, цензоры или диктаторы — что и означал термин «noble», «благородный». И в следующем веке такие плебейские семейства как Марции, Деции или Курии, в дополнение к тем то, кто явился из Тускула и других краев, сумели утвердиться на вершине этой новой благородной олигархии».24
История римской республики знает множество попыток провести аграрную реформу и облегчить тяжелое положение должников. Трибуны Линий и Секст пытались принять закон, по которому процент, уже выплаченный должником, вычитался бы из суммы основного долга. Чтобы смягчить это предложение и не вводить кредиторов в большой убыток, они также предусмотрели необходимость выплатить весь остальной долг в течение трех лет. Но пользы это не принесло — за следующие полвека разделаться с долговым бременем пытались еще не меньше четырех раз. Линий и Секст также постарались ограничить количество земли, которая могла принадлежать одному человеку. Беднота жаждала земли, и трибуны надеялись помочь ей. Как и долговое законодательство, эти меры скоро устарели.
Майкл Грант точно резюмирует ход событий:
«Во-первых, любые средства, какими бы Гортензий ни стремился облегчить долговую кабалу, оказывались еще более бесполезными чем усилия его предшественников; так что демократией в экономической и социальной сферах даже не пахло. Во-вторых, плебейский совет (пусть он по временам и откликался на призывы радикальных агитаторов) обычно шел за своими богатейшими участниками, точно так же как и народное собрание. И, в-третьих, руководящие силы совета — народные трибуны, обладавшие правом вето на решения любых римских магистратов, — оказались полностью во власти богачей. Это случилось не в одночасье. Сперва, (мы не знаем, когда именно) им дозволили присутствовать в сенате и слушать дебаты. Затем они получили право вносить свои предложения. И наконец — к концу века — они даже получили полномочия созывать сенат и руководить его заседаниями. Трибуны с радостью принимали подобные уступки, так как сами стремились обрести власть и влияние: и когда у них появилась такая возможность — Рим заполучил правящую аристократию, как из патрициев, так и из плебеев.
Пойди дела иначе и продолжай народные трибуны использовать право вето — вся государственная машина была бы парализована, но они не пожелали чинить препоны. Хотя, с точки зрения угнетенных пролетариев, это превращение трибунов из протестантов в прислужников власти означало поражение плебса в общественной борьбе, хотя формально она была и выиграна. Впредь беднякам было гораздо сложней искать себе новых заступников; поскольку новый вид про-правительственных трибун поместил их вето в избавление от Сената вместо этого — а сенат с радостью использовал их в собственных целях, не только для подавления доверявших им плебеев, но и для одергивания чрезмерно честолюбивых деятелей из своей среды».25
Галлы сжигают Рим
Рим вырос из войн. Он почти непрерывно сражался с соседними племенами. Борьба с вольсками, эквами и сабинами была для Рима вопросом национального выживания. Римская армия закалилась в этих войнах, разработала победоносную тактику. Римляне прониклись новым суровым, милитаристским духом. Традиционные римские ценности — воинская доблесть, дисциплина и служба на благо государства — таким образом, выросли из этих военных реалий, в которых пребывал Рим.
Начиная с первых своих стычек с латинскими племенами, Рим готовился к большим войнам. В дальнейшем войны велись и с более развитыми и цивилизованными странами, такими как этрусская колония Вейи. Именно в этой войне Камилл впервые ввел непрерывную военную службу. До того земледельцы, служащие в армии, могли покидать ее на время сбора урожая. Камилл покончил с этой традицией, заменив отпуск денежной выплатой. Война окончилась успехом и стала поворотным моментом. Впервые римской армии удалось покорить большой город-государство.
Эти завоевания подготовили почву для дальнейшей экспансии Рима. Поражение Вейи устранило препятствие на пути этой экспансии. Это война почти вдвое увеличила территорию Рима. Захваченные этрусские земли пронизывала система хорошо устроенных дорог. Эти владения были распределены между римскими гражданами. Подобная система раздела завоеванных земель была очень важным элементом в римской истории, но вставал вопрос: кому именно они достанутся? Этот вопрос был центральным во всей истории республики.
Тем временем, примерно с 387 г. до н. э. непрерывная череда побед римского оружия неожиданно прервалась. То было время переселения народов — главным образом, кельтов и германцев, двигающихся на запад в поисках новых земель. Эти передвижения огромных человеческих орд, навсегда преобразовавшие лицо Европы, закончились спустя век после падения Западной Римской империи. К VIII-VII векам до н. э., перемещение кельтских племен было в полном разгаре. Огромными массами они шли из Центральной Европы в Испанию и Британию. Они заняли просторы нынешней Франции, дав ей древнее название «Галлия».
Оттуда они в V столетии до н. э. перешли Альпы и вытеснили проживавших там этрусков. С этого времени север Италии стал называться «Галлией по эту сторону Альп» (Цизальпинская Галлия). Галлы дошли до долины реки По, благодаря развитому военному искусству и огромному войску. Их конница первой стала использовать железные подковы, а их пехота умела прекрасно сражаться. Немногие могли противостоять массовой атаке отрядов разрисованных и татуированных свирепых воинов на лошадях, украшенных головами поверженных врагов. Чтобы еще больше устрашить противников, они сопровождали свои атаки леденящими душу криками и ревом труб, которые были способны повергнуть в дрожь самых стойких римских солдат.
В конце IV века до н. э. одно из галльских племен перешло По и двинулась в сторону Рима. В одиннадцати милях от Рима их встретила самая большая армия, которую когда-либо выставлял Рим — от 10 до 15 тысяч воинов. То, что произошло дальше, стало самой крупной катастрофой в римской истории. Римская фаланга, вооруженная длинными копьями, была сокрушена галльской конницей и пехотой, которые промчались по ней словно каток. Римские порядки были расстроены, а армия разбита. Часть воинов, пытаясь спастись, бросилась в протекающую рядом реку, где многие из них утонули. Рим остался полностью беззащитен перед врагом.
Галлы ворвались в город и разбили лагерь на его улицах. Не встречая сопротивления, они стали грабить и жечь все вокруг, хотя взять осажденный Капитолий им не удалось. Даже сегодня по краям Форума можно заметить следы того погрома, в виде развалин и осколков кирпича. В конце концов, так и не захватив Капитолий, галлы оставили Рим. Память об этих ужасных событиях надолго осталась в сознании римлян, постепенно превратившись в мифы и легенды.
Римские историки оставили нам рассказы о том, как напуганные римляне собрали все золото в своих храмах, чтобы откупиться от галлов. Они снесли все собранное золото в назначенное галлами место. Когда стали взвешивать золото, оказалось, что его вес меньше оговоренного, предводитель галлов Бренн бросил свой тяжелый меч на другую чашу весов и произнес ставшую исторической фразу «Vae victis» («Горе побежденным»). Правда это или нет, но основанная на реальных фактах история, навсегда оставила сильный отпечаток на национальной психологии римлян, и особенно на их отношении к галлам, которым впоследствии самим пришлось ощутить всю страшную правоту приписываемых Бренну слов.
Самнитские войны
Несмотря на это поражение, римляне сумели быстро восстановить силы и продолжить свое победное шествие, расширив сферу влияния до плодородных равнин Кампаньи. Это продвижение привело к конфликту с весьма воинственным латинским народом и началу одной из самых длительных и жестоких войн в римской истории. Самниты, земледельцы и скотоводы, обитали на бесплодных известняковых склонах Апеннин в центральной Италии. Их варварское общественное устройство мало, чем отличалось от Рима первых веков. Как в случае с галлами и многими другими варварскими племенами, рост населения и нехватка пахотных земель заставляли огромные массы людей сниматься с мест и двигаться дальше в поисках нового пристанища.
Рим в то время усиливал свое присутствие в Кампанье, и теперь ему угрожало нашествие самнитов. В итоге началась война. Чтобы иметь возможность быстро перебрасывать войска к местам боев, римляне выстроили Аппиеву дорогу. Однако самниты, оказались опасными противниками, и Рим потерпел несколько крупных поражений в ходе трех войн. Первая война длилась с 343 по 341 г. до н. э. Вторая (или Большая) война с самнитами — с 326 по 304 г. до н. э. Третья война тянулась с 298 по 290 г. до н. э. Эти войны потребовали огромных жертв и сильно подорвали ресурсы Рима. Одна только вторая война продолжалась двадцать лет: поначалу ее ход складывался для римлян весьма неудачно, и переломить его удалось лишь ко второй половине.
В этих схватках Рим не просто защищал себя; ему впервые пришлось столкнуться с сильными и богатыми греческими городами-государствами южной Италии.
Им пришлось просить у римлян помощи против самнитов. Победа в этой дорогостоящей войне означала для Рима власть над всей Италией (за исключением Сицилии). Поэтому окончательное поражение самнитов решило судьбу Италии и изменило всемирную историю. Но помимо того, оно также подтолкнуло классовую борьбу внутри самого римского общества.
Классовые противоречия в Риме
В результате всех этих завоеваний в Риме прибавилось не только земли, но и населения. Отчасти это стало следствием иммиграции побежденных народов (главным образом, латинских племен). Но так как пришельцы не входили в старые роды, курии и трибы, у них не было прав римских граждан (Populus Romanus). Хотя они и были лично свободны, могли владеть землей, платили налоги и служили в армии, они не могли занимать государственных постов и принимать участие в куриальных собраниях. Что еще важней — им не разрешалось претендовать на вновь завоеванные государственные земли. Тем самым, из них создавался новый угнетенный класс, который был лишен всех общественных прав.
Как мы уже отмечали, первый период римской истории характеризовался непрерывной внешней экспансией, с разгромом самнитов подарившей Риму господство над Италией. После долгих лет оборонительных войн с латинскими племенами и галлами, римляне сами принялись завоевывать других. В ходе этих войн римская армия была реорганизована. Она выросла, став намного больше, чем первоначальные два легиона. Майкл Грант пишет:
«Каждый легион был шедевром организации, более мобильным чем греческая фаланга (которая и послужила моделью), потому что легион состоял из тридцати меньших отрядов — манипул, каждая из которых могла маневрировать и сражаться отдельно, как на пересеченной местности, так и на равнинах, как в сомкнутом, так и в рассыпном строю, совмещая, таким образом, компактность с гибкостью».26
Римляне усовершенствовали военное дело, которое они приспособили под особенности своей армии, состоящей из свободных граждан: дисциплинированные легионы воинов, вооруженных копьями и короткими мечами. Их военная машина сметала все на своем пути. Эта новая организация, скорее всего, родилась в ходе войн с самнитами. Римляне полностью изменили природу войны. Осыпая врага тучей копий, обрушивая на него короткие мечи и прикрывшись стеной щитов, они применяли тактику, схожую с тактикой мушкета и штыка XVIII века. Ни одна другая армия не в силах была противостоять им.
Главным фактором побед римского оружия было свободное крестьянство, из которого и формировалось ядро армии. Изначально землю обрабатывали сообща, но с распадом рода и появлением частной собственности на землю, появился класс свободных мелких крестьян. Наряду с классом мелких земледельцев (assidui) появился еще один бедный слой общества — пролетарии (proletarii), т. е. «производители детей». Но именно мелкие собственники составляли основу римских войск. Римский крестьянин был свободным гражданином, которому было что защищать. Он имел право носить оружие и был обязан служить в армии. Само латинское слово «народ», populus, изначально означало «отряд», и связано со словом populari — «опустошать», и popa — «мясник».
Итак, плебеи составляли большинство армии, и они умело этим пользовались. Не раз плебс поворачивал оружие против своих классовых врагов, отказываясь воевать или саботируя вербовку. Ливий свидетельствует, что римские военачальники нередко больше боялись своих солдат, чем врага. Это напоминает слова герцога Веллингтона, который на смотре своих войск перед Ватерлоо сказал одному из своих офицеров: «Не знаю, что чувствует враг, но, мой бог, я сам их боюсь!»
Накануне войны с Вейями, пишет Ливий, трибуны вызвали недовольство в армии:
«Волнения вспыхнули сами собой, а народные трибуны разжигали их все сильней. Самая страшная война, не уставали повторять они, это война патрициев с плебеями, нарочно обреченными тяготам воинской службы, обреченными гибнуть от вражеского оружия; их усылают подальше от Города, чтобы в мирное время, у себя дома, они не вспоминали ни о свободе, ни о поселениях, чтобы не рассуждали о разделе общественных земель или о свободных выборах. Старым воинам трибуны напоминали об их походах, пересчитывая их рубцы и увечья, вопрошая, есть ли у них на теле живое место, чтоб принять новые раны, хватит ли крови, чтоб пролить ее за государство. Беспрестанно выступая в таком духе на сходках, они убедили плебеев не начинать войны, и внесение закона о ней было отсрочено, ибо стало ясно, что, рассмотренный в обстановке всеобщего озлобления, он будет отвергнут».27
Таким образом, Ливий считает агитацию трибунов первопричиной армейских мятежей. Скорее всего, недовольство начало возникать раньше, и трибуны просто озвучили его: достаточно тяжкое преступление, по мнению сената. И снова лукавым патрициям удалось умиротворить плебеев. Римские военачальники позволили армии разграбить город Анксур, где было захвачено 2500 рабов:
«Фабий удержал своих воинов от дальнейшего разграбления города до тех пор, пока не подошли его сотоварищи, ибо он полагал, что и они участвовали во взятии Анксура, отвлекая остальных вольсков от оказания помощи этому городу. Когда же они подошли, все три войска разграбили этот наполненный долголетними богатствами город. Такая щедрость полководцев поначалу содействовала примирению плебеев и патрициев. А потом к ней прибавился еще один, очень своеобразный дар от первейших людей простому люду: сенат — о чем перед тем не было и помину ни от плебеев, ни от трибунов — постановил, чтобы воины получали жалованье от казны, а ведь до того каждый нес службу за собственный счет». (Курсив А. В.)28
Ливий описывает сцены радости и неожиданного «великодушия» Сената, который готовился к войне с сильным этрусским городом-государством Вейи, и поэтому боялся перспективы конфликта с армией:
«Никогда еще, говорят, народ не принимал ничего с такой радостью. Плебеи сбежались к месту заседания сената, хватали за руки выходивших сенаторов и называли их истинными отцами, заверяя, что отныне за столь щедрое к ним отечество никто из них, сколь достанет сил, не пощадит ни крови, ни живота. Ведь к возможности обеспечить благополучие семьи на то время, что сами они будут проводить в трудах и заботах для блага государства, прибавлялось еще и сознание того, что благодеяние это оказано им по доброй воле, без малейшего нажима со стороны народных трибунов, без всяких просьб, отчего плебеи все больше радовались и все сильнее благодарили. Лишь народные трибуны не разделяли общей радости и согласия сословий. Они говорили, что и сенаторы, и все остальные напрасно так уж рассчитывают на успех и благоденствие. Это решение, по их словам, лучше на вид, чем на деле. Ведь где же взять для этого денег, как не обложив налогом народ? Значит, и щедрость их — за чужой счет».29
Трибуны сомневались не зря. Сенат действительно ввел новый налог, и трибуны публично объявили, что будут защищать любого, кто откажется его платить. Ливий рассказывает, что, в конце концов, сенат вычерпал из казны всю бронзу, лишь бы умилостивить солдат. И это ему действительно удалось — по крайней мере, на время.
Правящий класс понимал необходимость гарантий, того, что римские войска, состоящие из плебеев, продолжат войну. В 312 г. до н. э. пост цензора занял патриций Аппий Клавдий по прозвищу «Слепой» — он и правда ослеп к старости. Его главной целью было улучшение положения ветеранов, которые к этому времени все чаще становились безземельными крестьянами, стекающимися в Рим. Ни один из реформаторов никогда ранее не поворачивался лицом к проблемам пролетариата. Его намерения, возможно, были весьма искренними, но, скорее всего, его главная задача состояла в том, чтобы избежать беспорядков в столице. Несмотря ни на что, его скромные шаги разгневали Сенат, который всячески мешал их проведению.
Третья и последняя Самнитская война началась в 298 г. до н. э. и длилась восемь лет. Эта жесточайшая война окончилась победой римлян, но полностью истощила казну. Даже плебеи со средними доходами, проведя годы на войне, возвращались домой совершенно обедневшими. Приток дешевого зерна из завоеванных земель разорил их. Несмотря на все защитные законы, все больше крестьян становились безнадежными должниками. В результате ситуация снова обострилась.
Классовые противоречия присутствовали в римском обществе с первых дней его существования. Быстрый рост неравенства и ущемление прав плебеев со стороны патрициев все сильней раскалывали социальное единство республики. Богатые классы захватывали общинные земли и всячески угнетали плебеев, обостряя внутреннее недовольство. Постоянная потребность оборонять Рим от внешних врагов дала патрициям бесценное орудие, при помощи которого они могли контролировать плебеев. Гегель отмечает:
«Сначала, когда государство было разбойничьей организацией, всякий гражданин непременно был солдатом, потому что государство существовало благодаря войне: это бремя было тягостно, потому что всякий гражданин должен был сам содержать себя на войне. Это обстоятельство вызвало чрезмерную задолженность плебеев патрициям. С изданием законов и это отношение, которое делало возможным произвол, должно было мало-помалу прекратиться; однако патриции вовсе не обнаруживали склонности тотчас же освободить плебеев от их зависимости; наоборот, эта зависимость все еще должна была продолжать существовать в их интересах. В законах двенадцати таблиц было еще много неопределенного, очень многое еще было предоставлено произволу судьи; но судьями были только патриции; таким образом, противоположность между патрициями и плебеями еще долго продолжает существовать. Лишь постепенно плебеям становятся доступны все высокие места, и они получают права, прежде принадлежавшие только патрициям».30
В этих словах мы ясно видим сокрытые механизмы любого государства в истории: организованное насилие и классовое угнетение, плохо укрытое фиговым листком «беспристрастности» и «правосудия», выраженном в Верховенстве Закона, а на самом деле, маскирующем грубую реальность государства как органа классового порабощения:
«Чтобы составить себе точное представление об этом духе, следует иметь в виду не только действия римских героев, когда они борются против врага как солдаты или полководцы или выступают как послы, причем их помыслы всецело принадлежат лишь государству и его повелениям, без колебаний и уступок, — но главным образом поведение плебеев во время восстаний против патрициев. Как часто плебеи во время своих восстаний, когда расстраивался законный порядок, бывали успокаиваемы чисто формальными приемами и как часто их обманывали, чтобы не исполнять их справедливых и несправедливых требований! Как часто, например, сенат назначал диктатора, когда не было ни войны, ни опасности со стороны врага, чтобы мобилизовать плебеев как солдат и военной присягой обязать их беспрекословно повиноваться».31
Попытки проведения аграрной реформы не раз откладывались из-за опасности иноземного вторжения. Патриции умело пользовались внешней угрозой для снижения классовой напряженности. Старый идеалист Гегель прекрасно понял принципы классового общества! И как блестяще он продемонстрировал тактику, с которой правители государства используют «внешнего врага» для одурачивания масс и повышают градус патриотизма, чтобы отвлечь их внимание от самоочевидного факта — что главный их враг сидит в столице.
Переход к рабовладельческой экономике
Основная движущая сила истории — развитие производительных сил, или, иначе говоря, усиление власти человека над природой. Жизнеспособность любой социально-экономической системы, в конечном итоге, определяется ее возможностью обеспечить людям пищу, одежду, жилье и тому подобные вещи. Очевидно, что прежде чем начать изобретать, философствовать, творить, мыслить, людям необходимо поесть.
Задолго до Маркса Аристотель писал, что «человек начинает философствовать, только тогда, когда удовлетворены все его жизненные потребности». Того же мнения держался и Гегель:
«Если свобода как таковая прежде всего есть внутреннее понятие, то средства, наоборот, оказываются чем-то внешним, тем, что является, что непосредственно бросается в глаза и обнаруживается в истории. Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей. и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль».32
Много позже Маркс и Энгельс объяснили устройство связей между экономическим базисом общества и выросшей на нем надстройкой: государственным устройством, правом, культурой, религией и философией. Это не прямолинейная механическая зависимость, а крайне тонкое диалектическое взаимодействие. Однако, в конечном итоге, причины всех больших исторических преобразований кроются в изменениях способа производства, а уж те соответственным образом меняют социум.
Однажды английский социалист Эрнст Белфорт Бэкс предложил Энгельсу объяснить, как появление религиозной секты гностиков во II веке зависело от тогдашних экономических условий в Риме. Своим вопросом Бэкс продемонстрировал полное непонимание исторического материализма, однако Энгельс терпеливо ответил, что это невозможно, «но предположил, что, заглянув еще глубже, можно было бы отыскать некоторое экономическое объяснение этой весьма интересной побочной исторической проблемы».33
Мы не поймем, отчего пала Римская республика, пока не «взглянем поглубже» на ее происхождение, которое стало прямым результатом перемен в способе производства, в свою очередь, решительно изменив межклассовые отношения в римском обществе, природу государства и армии. Главной причиной тому было распространение рабского труда: оно покончило с классом свободных крестьян, составлявших основу республики и армии. Все дальнейшие события были лишь следствием этого факта.
Каждая новая ступень развития человеческого общества характеризуется более высоким развитием производительных сил, что позволяет увеличить производительность труда. Здесь кроется тайна всего прогресса. Греция и Рим продемонстрировали нам чудеса искусства, науки, права, философии и литературы. Но все эти интеллектуальные достижения основывались на рабском труде. В дальнейшем рабство стало экономически невыгодно и сменилось феодализмом, при котором эксплуатация приняла другие формы. Наконец, мы пришли капиталистического способа производства, с которым живем и по сей день, хотя его противоречия сейчас видны всем и каждому.
Сегодня рабовладение кажется нам противоестественным, морально отталкивающим. Но тогда перед нами встает парадокс: откуда родом вся наша современная наука и культура? Ответ очевиден: из Греции и Рима (если оставить в стороне существенный вклад, внесенный арабами, которые сумели сохранить и развить античные знания). Иными словами, все современные достижения цивилизации уходят своими корнями в рабовладельческий строй.
Несмотря на все варварские и кровавые ужасы, не вызывающие ничего кроме отвращения, каждый новый этап социального развития есть шаг вперед на пути освобождения человечества, достичь которого можно лишь на основе самого полного развития производительных сил и человеческой культуры. Именно это имел в виду Гегель, сказав, что человечество может прийти к свободе не столько из рабства, сколько через рабство.
Пунические войны
История классового общества — это история войн и революций. Моралисты и пацифисты могут обливаться слезами по этому поводу. Но, как ни прискорбно, легко заметить, что историей движут вовсе не моральные соображения. Расценивать исторический процесс с точки зрения этики — все равно что применять моральные мерки к законам естественного отбора в животном мире. Можно, конечно, сожалеть о том, что плотоядные животные не понимают прелестей вегетарианства, но наши чувства никак не повлияют на законы природы.
Самоочевидно, что войны и революции — важнейший, даже решающий фактор человеческой истории. Говоря словами Гегеля, это те самые переломные моменты, где количественные изменения переходят в качественные, это границы, которые отделяют одну историческую эпоху от другой. Такие даты как 1789, 1815, 1914, 1917, 1945 годы делят историю на «до» и «после». В этих критических точках все медленно накапливающиеся противоречия взрываются с огромной силой и толкают общество вперед — или отбрасывают назад. На примере Римской республики мы видим диалектический процесс, в ходе которого война привела к переменам в способе производства, а эти перемены, в свою очередь, сами изменили природу армии и войны.
Эпоха становления Римской республики наполнена беспрерывными войнами: с этрусками, латинами, галлами, самнитами, греческими колониями и, наконец, с Карфагеном. Эта последняя война стала поворотной в римской истории. Карфаген был главной силой западного Средиземноморья. Он владел большей частью североафриканского побережья и южной Испании, а влияние его простиралось до Сардинии и Сицилии.
Именно вмешательство Карфагена в сицилийские дела стало причиной конфликта с Римом. На этом богатом острове находились могущественные греческие города-государства, которые постоянно враждовали друг с другом. После смерти правителя Сиракуз Агафокла, его наемники-мамертинцы захватили северо-восток острова. Новый царь Сиракуз Гиерон II смог нанести им ряд поражений. Мамертинцы призвали на помощь римлян. Так начался конфликт между Римом и Карфагеном за влияние и, в конечном счете, контроль над Сицилией.
Такие римские историки как Полибий уверяют, будто римлянам пришлось защищать себя, но в это верится с трудом. Вряд ли Карфаген мог угрожать Риму в тот момент. Напротив, сам Рим к этому времени стал агрессором, который вел борьбу за безраздельную власть над всей Италией, включая Сицилию. Таким образом, столкновение между двумя державами становилось неизбежным. Для Рима победа означала гегемонию не только в Италии, но и на всем Средиземноморье. А если вспомнить, что латинское слово mediterraneus означает «центр земли», становится ясно, что править Средиземноморьем в те времена фактически означало править миром.
Войны с Карфагеном было три (264-241 гг., 218-201 гг. и 149-146 гг. до н. э.). Их называют «Пуническими». По сравнению с ними, все предыдущие схватки были детскими играми. Войны были кровопролитными, жестокими и упорными, они тянулись десятилетиями. Человеческие и экономические потери были огромными. Только за пять лет первой Пунической войны население Рима сократилась на 40 000 человек, то есть на одну шестую! И в это число не входят потери, понесенные союзниками Рима, которые вели войну на море.
Хоть римляне и победили в первой войне, конфликт не был разрешен. Располагая доступом к серебряным рудникам Испании, Карфаген вскоре смог восстановить силы. Вторая война длилась 16 лет. Она навсегда связана с именем великого полководца древности Ганнибала. Римляне с тревогой наблюдали укрепление Карфагена в Испании. Это было смертельно опасно для них, и требовалось любой ценой положить конец экспансии. Для развязывания войны римлянам нужен был лишь предлог — и они получили его в тот момент, когда Ганнибал осадил Сагунт (современный Сагунто), который находился под римской защитой. Римляне обвинили Ганнибала в нарушении договора, по которому карфагеняне не имели права заходить на территорию южнее реки Эбро.
Были ли эти претензии обоснованы — дело десятое. Не следует путать подлинные причины войн с дипломатическими предлогами или случайностями, из-за которых они начинаются. Первая мировая война началась не из-за убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, как бы не пытались изобразить некоторые историки. Эта война стала неизбежным результатом конфликта интересов между молодым империализмом Германии и дряхлеющими империями — Великобританией и Францией. Аналогичные причины породили и вторую Пуническую войну. Полибию приходится признать этот факт:
«Некоторые историки Ганнибаловых подвигов, руководимые желанием объяснить нам причины, по которым возникла упомянутая выше война между римлянами и карфагенянами, называют первою причиною осаду Заканфы карфагенянами, второю — переход карфагенян вопреки договору через реку, именуемую у туземцев Ибером. Я назвал бы эти события началом войны, но никак не причинами».34
Совершенно верно. Римляне всячески препятствовали восстановлению экономической и военной мощи Карфагена, и потому поспешили использовать этот инцидент как предлог для вторжения в Испанию.
Войне суждено было начаться — вопрос был лишь в поводе. Поэтому римляне выставили Карфагену заведомо неисполнимый ультиматум (обычная дипломатическая уловка для развязывания войны). Они потребовали выдачи Ганнибала для наказания, в противном случае обещая начать войну. Ганнибал всячески пытался уклониться от войны с Римом, так как еще не был к ней готов. Но как только стало ясно, что война неизбежна, он решительно перехватил инициативу. Ганнибал ударил первым.
Римляне и представить не могли, что он решится вторгнуться в Италию. Они считали, что ему никогда не удастся преодолеть неприступную гряду Альп и зайти в Италию с севера. Но Ганнибалу удалось. Рим оказался захвачен врасплох. Неожиданность — один из важнейших факторов во время войны. Риму пришлось воевать с вторгшейся иностранной армией на своей земле. Гениальный военачальник, почти без всякой помощи извне, смог измотать римские армии и поставил Рим на край гибели.
Ганнибал рассчитывал, что его небольшую армию поддержат восставшие латинские народы, покоренные Римом (пусть и ходившие формально в «союзниках»). На его сторону действительно встали галлы Северной Италии, но большинство латинских народов остались лояльными Риму. И хотя победы Ганнибала под Треббией, у Тразименского озера и Канн бросили Рим к его ногам — сил для последнего удара оказалось слишком мало. Римляне всегда могли пополнить свое войско, в то время как Ганнибал был лишен притока свежей крови и не мог позволить себе понести большие потери. Именно поэтому, несмотря на весь свой полководческий талант, Ганнибал не смог одержать победу в войне.
Извлекая опыт из прежних поражений, римляне просто начали уклоняться от прямых столкновений и выжидали, пока карфагеняне истощат свои силы. После этого римская армия, под началом Сципиона, вторглась в Испанию и завоевала ее. Затем Рим обратил взор на сам Карфаген. Ему удалось вызвать мятеж африканских вассалов Карфагена. Восстание заставило Ганнибала вернуться в Африку, для защиты Карфагена. Энергия и решимость Рима вновь стали залогом победы. Карфаген потерпел решающее поражение в битве при Заме.
После этого римляне уже не нуждались в изображении своих войн как оборонительных. Они почувствовали вкус к новым завоеваниям. Это стало отражением коренных перемен в имущественных отношениях и способе производства. В тот же самый год (146 г. до н. э.) они уничтожили другого своего торгового конкурента — город Коринф. По приказу сената город был разрушен до основания, а его население продано в рабство. Все художественные ценности вывезли в Рим. Разрушение Коринфа способствовало предотвращению социальной революции: римляне всегда предпочитали иметь дело с олигархическими правительствами, а Коринф был неспокойной демократией.
Последнюю Пуническую войну Рим развязал вполне умышленно. Катон, возглавлявший партию войны, все свои речи в Сенате завершал одними и теми же прославленными словами: «Delenda est Carthago» — «Карфаген должен быть разрушен!» После трехлетней осады, истощившей и обессилевшей жителей Карфагена, город был взят штурмом. Карфагеняне дрались отчаянно: каждый дом стоил римской армии большой крови. Нарушив данные осажденным клятвы, римляне продали выживших карфагенян в рабство. Опустевший город они разрушили до основания, а место, где он стоял, посыпали солью, чтобы там впредь не росла даже трава. Разрушение Карфагена изменило судьбу Рима. Прежде Рим никогда не был морской державой. Карфаген не допускал его к морским путям. Теперь, покончив со своим могущественным конкурентом, Рим смог подчинить все Средиземноморье.
Победа принесла Риму новые территории, включая богатые греческие и финикийские колонии на побережье Испании. Это дало толчок росту капитала римлян, вовлеченных в средиземноморскую торговлю. Риму достались испанские железные и серебряные рудники, на которых в ужасных условиях работало множество рабов. Римляне взяли под свой контроль торговлю их продукцией. Все это привело к дальнейшему развитию торговли и обмена, и как следствие — росту денежного оборота. Таким образом, война сыграла важную роль в решительном перевороте способа производства и социальных отношений в древнем Риме.
Перемены в армии
Армии Рима одерживали победу за победой. Но за этой чередой триумфов нарастали скрытые противоречия: дома назревала еще более свирепая война — война между классами. Если говорить начистоту, это была война за дележ награбленного. На это указывал Гегель: «Так как римское государство добывало средства путем грабежа, то и раздоры в нем возникли из-за распределения добычи» (Курсив А. В.).35 Это очень точное и вполне материалистическое объяснение классовой борьбы в тогдашнем Риме.
Кроме всего прочего, Пунические войны изменили природу римской армии. До того момента она состояла из свободных граждан, главным образом, землепашцев. Но во время войны, когда судьба республики висела на волоске, старая система оказалась беспомощна и набор пришлось расширить. В армию впервые влилось множество пролетариев в возрасте от 18 до 46 лет. Деньги за службу им платило государство. Это был еще один шаг в превращении римского воинства из гражданского ополчения в профессиональную наемную армию. Соответственно изменились и отношения между армией и обществом. Сципион Африканский стал первым военачальником, получившим прозвище в честь одержанных побед.
С каждым новым завоеванием Рим приобретал новые обширные земли, захваченные у покоренных народов. Эта земля становилась собственностью римского государства — ager publicus (общественная земля). Но так как самим государством правили патриции, то именно они на деле распоряжались ager publicus как своей собственностью. У массы неимущих плебеев не было к этой земле никакого доступа. Здесь крылся источник постоянного недовольства.
Плебейских земледельцев-солдат раздражало еще и то, что срок воинской службы постоянно рос, а непрерывным войнам не видно было конца. Первоначально гражданское ополчение только лишь обороняло родную землю. Однако уже самнитские войны велись вдали от дома. В них участвовали почти все народы Италии, а тянулись они более полувека. Длительные периоды военной службы означали, что вернувшийся домой солдат-плебей обычно находил свое хозяйство в полном запустении, а семью — в непосильных долгах. Бесконечные войны, с одной стороны, привели к появлению масс рабов у владельцев больших состояний, которые трудились на них, а с другой — к росту безземельного населения, пролетариев.
Мы уже говорили, что сенат видел в завоеванных землях свою собственность. После длительного и кровавого конфликта с Ганнибалом, сенат предстал перед римским обществом в роли спасителя. Военная победа над опаснейшим врагом Рима возвысила авторитет сената и подорвала любую потенциальную оппозицию, по крайней мере, на время. Победа подарила Риму обширные и богатые территории. Когда третий век до нашей эру сменился вторым, сенат упрочил свою власть на новых территориях, назначив туда правителей с правом печатать монету за счет провинций.
Положение мелкого итальянского землевладельца неуклонно ухудшалось, чему было несколько причин: рост долгов, распространение рабства и давление крупного капитала. Свободное крестьянство не могло конкурировать с рабским трудом и потому начало распадаться. Постоянные войны, рост задолженностей и обнищание разрушили его. Несмотря на попытки законодательно защитить земледельцев, рабский труд вытеснял свободный труд. Все попытки остановить этот процесс были напрасны. Экономическая необходимость делала законы устаревшими, еще до того, как они были приняты. Законы Лициния обязывали крупных землевладельцев использовать определенное число свободных тружеников наряду с рабами, а также пытались смягчить долговое бремя. Но начавшийся процесс уже было невозможно остановить.
Крестьяне бежали из деревень в Рим, чтобы вести там бесцельное и бездеятельное существование, питаясь за государственный счет. Римский пролетариат фактически был люмпен-пролетариатом. Он паразитировал на рабском труде, ничего не давая обществу, а только потребляя. Не имея земли, он все еще имел право голоса, и это позволяло ему требовать свой кусок от общего пирога. На протяжении многих лет обезземеленные крестьяне скапливались в Риме, и они были низведены до статуса пролетариата — низшего слоя неимущих, они все равно оставались римскими гражданами и имели определенные политические права в государстве. Именно наличие большого числа обедневших граждан дало новый толчок классовой борьбе в римской республике. Долговой гнет привел к жестоким восстаниям.
Важно отметить, что классовая борьба в Древнем Риме не сводится к борьбе между плебеями и патрициями, которые различались примерно, как позднее «дворяне» и «народ». Сам плебс был неоднороден; богатое плебейство встало на сторону патрициев против бедняцких масс. Таким образом, старая борьба плебеев против патрициев стала превращаться в борьбу богатых против бедных.
Развитие рабовладения
К 100 г. до н. э. Римской республике принадлежали Северная Африка, Греция, Южная Галлия и Испания. Богатства стекались со всех сторон. Но эти же завоевания подорвали фундамент Республики. Еще до начала Пунических войн, после перехода трибунов на сторону сената, сформировалась новая олигархия. Богатые плебеи (римские капиталисты) мало-помалу слились со старой аристократией, сформировав могущественный блок крупных собственников. Первые две Пунические войны очень укрепили положение крупных рабовладельцев в римском обществе. Это стало социальным и политическим отражением коренных перемен в способе производства: на смену мелким свободным землевладельцам пришли крупные латифундии, с занятыми на них массами рабов.
До эпохи Пунических войн труд рабов не играл большой роли в производстве. Правда, в Риме, с самых ранних времен, скорее всего, всегда наличествовало некоторое количество рабов, главным образом, должников. Но в сельской местности рабов было гораздо меньше, чем свободных крестьян, а их положение не было столь ужасным, как в последующие времена. Раб трудился бок о бок со своим хозяином, и в сущности был еще одним членом семьи. Рабы нередко получали свободу. Карл Каутский отмечал:
«В материальном отношении положение этих рабов вначале далеко не было плохим, и они иногда даже легко мирились со своей судьбой. Как члены зажиточного хозяйства, служа большей частью потребности в роскоши или комфорте, они работали не слишком напряженно. Поскольку рабы принимали участие в производительном труде, они занимались им часто — у богатых крестьян — вместе со своим господином и постоянно для удовлетворения потребностей самой семьи, имевшей ограниченные пределы. Кроме личных свойств господ на положение рабов влияло еще благосостояние семьи, к которой они принадлежали. Они были заинтересованы в увеличении этого благосостояния, так как они вместе с тем улучшали и свое собственное положение. С другой стороны, раб, вследствие постоянных личных сношений с господином, сближался с последним и мог, если обладал остроумием и умом, сделаться для него необходимым и стать даже его другом. У античных поэтов мы находим многочисленные примеры, показывающие, как непринужденно обращались рабы со своими господами и с какой привязанностью относились обе стороны друг к другу. Часто рабы в награду за верную службу отпускались на волю, получая при этом крупный дар, другие сберегали так много, что могли выкупиться. Многие предпочитали рабство свободе, иными словами, предпочитали оставаться членами богатой семьи, чем, оставив ее, вести скудную и необеспеченную жизнь».36
Рост крупных земельных владений перевернул все. Способ производства изменился. Растущее население городов требовало все больше хлеба и других продуктов сельского хозяйства. С другой стороны, после разрушения Карфагена, Италия стала основным производителем вина и оливкового масла. Мелкое крестьянское хозяйство сменилось крупномасштабным интенсивным хозяйством, использовавшим новые прогрессивные методы: севооборот, удобрения, новые плуги, селекция и т. д. В южной Италии стали появляться крупные скотоводческие фермы. Возникли новые отрасли промышленности по производству шерсти и кожи, мяса и сыра. Только крупные собственники могли производить все это, так как лишь у них были пастбища в горах и долинах, что позволяло сезонно перегонять стада. Естественно, что везде трудились рабы.
Использование рабского труда в больших объемах, скорее всего, началось в шахтах. В Пунических войнах Рим отвоевал у Карфагена испанские месторождения серебра. Так как у римлян появилась огромная масса чрезвычайно дешевых рабов, которых можно было эксплуатировать до смерти — эти шахты могли давать очень приличную прибыль при относительно небольших издержках. Испанские серебряные рудники были одними из самых производительных отраслей древности, что подтверждают античные авторы:
«Сначала, — рассказывает Диодор об этих рудниках, — горным делом занимались частные люди и приобретали огромные богатства, потому что руда лежала неглубоко, и ее находили в огромных количествах. После, когда Иберией (Испанией) овладели римляне, рудники попали в руки жадных италиков, которым они доставляли огромное богатство. Они купили множество рабов и отдали их под надзор особых надсмотрщиков… Те рабы, которые работают в этих рудниках, приносят своему господину невероятные доходы, но многие из них вынуждены работать под землей, напрягая день и ночь все свои силы, и умирают от чрезмерного труда. Они не получают при этом никакого отдыха, и побои надсмотрщиков заставляют их выносить страшные лишения и работать до полного истощения. Те, что посильнее и выносливее, только удлиняют свои муки, которые делают для них смерть более желательной, чем жизнь». (Цитируется по работе Карла Каутского)37
Вытесняя свободный труд, рабовладение разрушало не только класс свободных крестьян; оно также не давало развиваться кустарным промыслам из-за больших масс рабов, занятых на городских предприятиях. Понемногу рабы окончательно заменили собой свободных. Моммзен пишет:
«Тяжелые, частью неудачные войны и вызванное этими войнами обложение чрезмерными военными налогами и трудовыми повинностями довершили остальное, вытеснив землевладельца из дома и обратив его в слугу, если не в раба заимодавца, или же фактически низведя его как неоплатного должника в положение временного арендатора при его кредиторах. Капиталисты, перед которыми тогда открылось новое поприще для прибыльных, легких и безопасных спекуляций, частью увеличивали этим путем свою поземельную собственность, частью предоставляли название собственников и фактическое владение землей тем поселянам, личность и имущество которых находились в их руках на основании долгового законодательства. Этот последний прием был самым обыкновенным и самым пагубным: хотя он иных и спасал от крайнего разорения, но ставил поселянина в такое непрочное и всегда зависевшее от милости кредитора положение, что на долю поселянина не оставалось ничего, кроме отбывания повинностей, и что всему земледельческому сословию стала угрожать опасность совершенной деморализации и утраты всякого политического значения».38
О том же говорит и Каутский:
«Если дешевы были рабы, то могли быть дешевы и их промышленные изделия. Денежных затрат они не требовали. Предприятие, латифундия доставляли рабочим жизненные припасы и сырье, а часто и инструменты. А так как рабы, во всяком случае, должны были получать пропитание в течение того времени, когда они не нужны были сельском хозяйстве, то все промышленные продукты, которые производились ими сверх потребностей собственного предприятия и домашнего хозяйства, представляли избыток, приносящий прибыль даже при низких ценах.
Неудивительно поэтому, что при наличии такой конкуренции со стороны рабского труда не могло развиться свободное, крепкое ремесло. В античном, в особенности римском, мире ремесленники остались бедняками, которые в большинстве случаев работали без подмастерьев и обыкновенно перерабатывали доставленный им материал на дому у заказчика или у себя. О сильном сословии ремесленников, как оно развилось в течение средневековья, нет и речи. Цены оставались низкими, ремесленники находились в постоянной зависимости от своих заказчиков, крупных землевладельцев, и очень часто вели, в качестве их клиентов, чисто паразитическое существование, ничем почти не отличаясь от люмпен-пролетариев».39
Коренные перемены происходили по всей Италии. Огромный приток рабов крайне обесценил подневольный труд. Свободное итальянское крестьянство было не в силах конкурировать с ним. Рост рабовладения подорвал свободное крестьянство, которое составляло основу республики и войска. Италию поделили между собою крупные собственники, владевшие армиями рабов. Моммзен так описывает этот процесс:
«Ручная работа обыкновенно производилась рабами. Во главе состоявших при имении рабов (familia rustica)40 находился эконом (vilicus от villa), который принимал и выдавал, покупал и продавал, получал от владельца инструкции и в его отсутствие распоряжался и наказывал».41
Моммзен продолжает:
«Вся система хозяйства носит на себе отпечаток той ничем не стесняющейся беспощадности, которая свойственна могуществу капитала. Раб и рогатый скот стоят на одном уровне. «Хорошая цепная собака”, — говорил один римский сельский хозяин, — «не должна быть слишком ласкова к своим сотоварищам по рабству”. Пока раб и вол способны работать, их кормят досыта, потому что было бы неэкономично оставлять их голодными, а когда они утратят работоспособность, их продают, так же как истертый сошник, потому что было бы неэкономично далее их содержать».42
Революция рабов
Производительность и культура
Можно было бы написать целый курс истории человечества с точки зрения борьбы за рост производительности труда. Здесь сокрыта тайная движущая сила прогресса: человечество медленно поднимается вверх — на более высокий уровень, постепенно подчиняя своей власти окружающую среду и общество. Переход к рабовладельческой экономике, несомненно, повысил производительные силы общества, сопровождаясь определенным прогрессом в искусстве, литературе и культуре.
До Пунических войн римляне практически не интересовались искусствами. На науку смотрели свысока, а главные государственные деятели в основном отдавали все свои силы и энергию сельскому хозяйству. В этом они сильно отличались от Афин. Римляне с подозрением смотрели на людей, способных красиво излагать свои мысли. Сами они предпочитали говорить просто и без прикрас. Письменность была развита не намного лучше: литература ранней республики, в сущности, ограничивалась летописями. Впрочем, закат республики ознаменовался развитием литературных жанров и философских школ: поэты Катулл и Лукреций снискали всеобщий почет. Это было лишь следствием перемен, произошедших в образе жизни и вкусах правящего класса. Такие консерваторы как Катон протестовали против подобных тенденций, но современники уже видели в них лишь безнадежно отставших от жизни чудаков.
Вся эта новоявленная изысканная и богатая культура была построена на труде рабов, чьи условия жизни все более и более ухудшались. Между богатой элитой и беднотой, не говоря уже о рабах, пролегала огромная пропасть. Изменения, захлестнувшие римскую республику после Пунических войн сильно напоминают развитие капитализма в Европе XVIII века. Действительно, слово «капитализм» нередко используется в отношении этой фазы римской истории. Однако, невзирая на явные параллели, так говорить не совсем верно. Современный капитализм опирается на свободный рынок товаров и труда. Крупномасштабное рабство несовместимо с современным капитализмом, который уничтожил рабовладение в ходе своего развития. Прекрасный пример тому — гражданская война в Америке.
Основной отраслью производства в римской республике было сельское хозяйство. Другие формы экономики (рудники, ремесла и торговля) зависели от него. Мелкое крестьянство почти целиком потребляло то, что производило. На продажу оставался небольшой излишек (если он был). Производство с целью обмена (товарное производство) не получало развития до конца Пунических войн. Это было связано с распространением крупных латифундий и широким использованием рабского труда. Труд рабов понемногу подточил старый уклад, а после и окончательно уничтожил свободное римское крестьянство.
Римские капиталисты продолжали скупать мелкие земельные хозяйства, а там, где крестьяне упорствовали — просто отнимали их без намека на выкуп. По данным Моммзена, к 134 г. до н. э. в Этрурии не осталось ни одного свободного крестьянина. В псевдоквинтилианском собрании речей приводится жалоба бедняка на беспредел богатых землевладельцев:
«Не с самого начала был я соседом богатого человека. Вокруг меня жили на многочисленных участках одинаково состоятельные владельцы, которые в добром соседском согласии обрабатывали свои земли. Как все это изменилось! Земля, которая кормила всех этих граждан, превратилась в одну огромную плантацию, принадлежащую одному богачу. Его поместье раздвинуло свои границы во все стороны; крестьянские дворы, которые оно поглотило, сравнены с землей, а святилища отцов разрушены. Старые владельцы должны были расстаться с богом покровителем отцовского дома, вместе с женами и детьми своими они должны были уйти на чужбину. Над далекой равниной господствует все то же однообразие. Как стеной окружает меня со всех сторон богатство: здесь сад богача, там его поля. Здесь его виноградники, там его леса и пастбища. И я бы охотно ушел отсюда, но я не мог найти клочка земли, где у меня не было бы богатого соседа. Ибо где только не натыкаешься на поместья богачей? Им мало того, что они расширили свои поместья так далеко, что, точно государства, земли их находят свои естественные границы только в реках и горах. Они завладели также самыми отдаленными горными пустошами и лесами. И нигде не находит себе границы и предела это расширение, разве только один богатый наткнется на другого. И ко всему этому присоединяется, наконец, презрительное отношение этих богачей к нам, беднякам: они не считают даже нужным отрицать преступление, которое они совершили над нами». (Цитируется по работе Карла Каутского)43
Противоречия рабовладельческой экономики
В ту же эпоху мы видим значительное усиление правящей олигархии, укрепившей свою власть в обществе и государстве. Наряду со старыми аристократами укрепляется и новый класс — римские капиталисты: нувориши, латифундисты, крупные купцы и ростовщики. Богатство всех этих людей, в конечном счете, происходило из сельского хозяйства.
Так как земля была основным источником всего богатства, все стремились завладеть ею или приумножить свои наделы.
Но для того, чтобы земля приносила прибыль, кто-то должен ее обрабатывать. Для этого служили рабы. Римляне переняли использование невольничьего труда в крупных масштабах у карфагенян. Захватив земли, ранее принадлежавшие Карфагену в Сицилии, Сардинии, Испании и Северной Африке, римляне увидели преимущества крупномасштабного сельского хозяйства и сами стали применять и совершенствовать его.
В межсезонье, когда сельская работа затихала, рабов заставляли заниматься ремеслом: выделкой кож, плотничеством, гончарным делом и т. д. Стало развиваться товарное производство, не только для потребления, но и на продажу. Стоимость рабочей силы состояла из цены раба и минимальных затрат на его существование. Каутский пишет:
«Конечно, о техническом превосходстве крупного производства в сельском хозяйстве тогда не было и речи. Наоборот, рабский труд производил меньше, чем труд свободного крестьянина. Но раб, рабочую силу которого не надо было щадить, которого можно было без всяких опасений замучить работой насмерть, доставлял гораздо больший избыток над средствами его содержания, чем крестьянин, не понимавший еще тогда благословения прибавочного труда и привыкший к хорошей жизни. Ко всему этому присоединялось еще и то преимущество, что именно в таких общинах крестьянин мог каждую минуту быть оторван от плуга для защиты отечества, тогда как раб был освобожден от военной повинности. Таким образом, в экономической сфере таких больших и воинственных городов развилось крупное сельскохозяйственное производство на основе рабского труда».44
Войны, поставлявшие множество дешевых рабов, уничтожали свободное крестьянство, которое составляло ядро римской армии. Разорившиеся крестьяне становились разбойниками или пополняли армию люмпен-пролетариата Рима и других городов. Эта социальная деградация вела к расцвету разбоев и грабежей, что в свою очередь, умножало массу дешевых рабов за счет преступных элементов. Тюрем тогда еще не существовало, и у осужденных было всего две судьбы: их приговаривали либо к принудительному труду, либо к смерти.
Хотя мы и говорим «римский капитализм» — он не был похож на современный капитализм. Он опирался не на промышленность, а на торговлю, ростовщичество, и рабовладельческое аграрное хозяйство. Как мы уже отмечали, специфической особенностью рабского труда была его невысокая производительность. Хотя рабство в целом сильно подняло производительные силы общества, в нем было заложено противоречие. Оно состояло в том, что при увеличении совокупного труда, удельная производительность рабского труда была ниже, чем у свободного крестьянина.
Низкая производительность труда отдельного раба вытекала из его подневольного характера. Рабский труд становился выгодным только когда он использовался в крупных масштабах. Только в коллективном производстве можно легко выжать из раба все жизненные соки и тут же заменить его другим. Как следствие, условия жизни и труда рабов ухудшались непрерывно. Крупные латифундии обслуживались большими отрядами рабов, которых заставляли работать в течение светового дня, попарно заковывали в кандалы и клеймили горячим железом. Ночью их держали под замком, а часто — в простых ямах. Как любил говорить Катон, «раб должен или трудиться, или спать».
И так же как название «капиталист» не вполне точно отражает истинные функции римских рабовладельцев — так и слово «пролетариат», применительно к обедневшим крестьянам, вынужденным бежать в города, может ввести в заблуждение. Существует фундаментальное отличие современного пролетариата, от пролетариев древнего мира. Современный рабочий класс — единственный класс (наряду с пока еще существующим крестьянством), который действительно что-то производит. В отличие от него, римский пролетариат не работал — он ничего создавал, а лишь паразитировал. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, современный пролетариат кормит общество, тогда как римский пролетариат питался трудом рабов, которые в те времена и были подлинным трудящимся классом.
Техника
Принцип современного капитализма — накопить капитал, чтобы затем инвестировать его в производство. Такая концепция была абсолютно непостижима для римского капиталиста. Почти дармовой труд невольников делал все это ненужным. Конкуренция с рабским трудом подорвала развитие свободного ремесла. Ремесленники стояли в Риме немногим выше уровня люмпен-пролетариата.
Рабство также мешало развитию промышленности и техники. Современный капиталист расходует наибольшую часть своих прибылей на совершенствование технологий, чтобы иметь преимущество перед своими конкурентами. Положение римских рабовладельцев было другим. Рабство было несовместимо с техническим прогрессом. Одно из самых поразительных противоречий древнего мира — в том, что, столь тесно приблизившись к капиталистической экономике, он никак не мог преодолеть разделяющую их черту и начать развиваться, хотя потенциал для подобного развития явно был. Лишь один пример: александрийские греки изобрели паровой двигатель, который даже работал. Но они использовали его как игрушку, бесполезный курьез. Его производительный потенциал никогда ими не использовался. Почему так происходило?
При избытке дешевых рабов, самые большие излишки извлекались из крупных земельных наделов. И дело тут не в передовых технологиях крупномасштабного аграрного хозяйства. В развитии техники попросту не было нужды. Технологии не совместимы с рабским трудом еще и потому, что рабы, работающие по принуждению, не будут беречь дорогие инструменты, а наоборот, будут их нарочно ломать. В южных штатах США применялся исключительно мул, так как лошадей было опасно доверять рабам, которые быстро загоняли их до смерти. Только самые грубые, самые прочные орудия труда и инструменты можно было без опаски вручать невольникам. Вот что говорит об этом Маркс:
«Рабочий, по меткому выражению древних, отличается здесь только как instrumentum vocale [одаренное речью орудие] от животного как instrumentum semivocale [одаренного голосом орудия] и от неодушевленного орудия труда как от instrumentum mutum [немого орудия]. Но сам-то рабочий дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и con amore [со сладострастием] подвергая их порче, он достигает сознания своего отличия от них. Поэтому экономический принцип такого способа производства — применять только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, которые как раз вследствие своей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче.
Поэтому в рабовладельческих штатах, расположенных у Мексиканского залива, до начала Гражданской войны были в ходу плуги старокитайской конструкции, которые рыли землю, как свинья или крот, но не делали борозды и не переворачивали пласта… В своем «Sea Board Slave States» Олмстед рассказывает между прочим: «Мне показывали здесь орудия, которыми ни один находящийся в здравом уме человек не позволил бы обременить наемного рабочего; их чрезвычайная тяжесть и неуклюжесть, думается мне, по крайней мере на 10 процентов увеличивают труд по сравнению с теми орудиями, которые обыкновенно употребляются у нас. Но меня уверяли, что при том небрежном и грубом обращении, которому они подвергаются у рабов, было бы неэкономно предоставлять последним более легкие и менее грубые орудия, которые мы постоянно даем наемным рабочим, причем извлекаем из этого выгоду, не сохранились бы и одного дня на хлебных полях Виргинии, хотя почва здесь легче и не так камениста, как у нас. Точно так же, когда я спросил, почему на всех фермах лошади заменены мулами, то первым и, конечно, самым убедительным доводом было то, что лошади не могут переносить того обращения, которому они всегда подвергаются со стороны негров; лошади всегда быстро надрываются или калечатся от этого, между тем как мулы переносят побои и недостаток пищи и не претерпевают от этого существенного вреда, не простужаются и не заболевают, если пренебрегают уходом за ними или перегружают их работой. Впрочем, мне стоит только подойти к окну той комнаты, где я пишу, и почти каждый раз я вижу такое обращение со скотом, за которое всякий фермер на Севере немедленно прогнал бы рабочего».45
Таким образом, в течение долгой эры рабовладения не было ни одного технологического прорыва, и производительность оставалась на низком уровне. Рабовладельцы (как и их наследники — феодалы) нисколько не были заинтересованы в накоплениях для инвестирования. Целью их накопления было удовлетворение личных потребностей и страстей в самом широком масштабе. Этим объясняется экстравагантно роскошный образ жизни богатых римлян, их безумные пиршества и оргии. Создавались самые немыслимые яства, устраивались роскошные фестивали и празднования, шелковые одежды, колоссальные общественные здания, а также бесплатная раздача хлеба безработной римской толпе.
Так как рабовладельцу не нужно было вкладывать деньги в рационализацию производства, он мог расходовать всю прибыль (кроме определенных расходов на инструменты, скот и рабов) на удовлетворение своих личных потребностей и прихотей. Кое-что вкладывалось в торговлю и ростовщичество, но, в конечном итоге, они также шли на потребление. В некоторых отраслях количество свободных рабочих могло время от времени увеличиться из-за роста спроса на предметы роскоши: статуи и произведения искусства, шелка, благовония и т. д. Но вся эта роскошь создавалась потом и слезами огромной армии рабов.
«Если современного капиталиста характеризует страсть к накоплению капитала, то знатного римлянина времен Империи, эпохи, в которую возникло христианство, отличает страсть к наслаждениям. Современные капиталисты накопили капиталы, в сравнении с которыми богатства самых богатых древних римлян кажутся незначительными. Крезом среди них считался вольноотпущенник Нерона, Нарцисс, имевший состояние в 90 миллионов марок. Что значит эта сумма в сравнении с теми 4000 миллионов, которые приписываются Рокфеллеру? Но расточительность, которой отличаются американские миллиардеры, несмотря на ее размеры, вряд ли может сравниться с расточительностью их римских предшественников, которые угощали своих гостей соловьиными языками и распускали в вине жемчужины».46
Эти богатые паразиты жили ради удовольствия, так как им больше не на что было тратить прибыли, полученные от эксплуатации рабов. Многие консерваторы, такие как Катон Старший (234-149 гг. до н. э.) осуждали подобную расточительность правящего класса и пытались оградить римское общество от новомодных «греческих» порядков. «Мы знаем, — пишет Плиний, — что Спартак запрещал золото и серебро у себя в лагере. Насколько же наши рабы духовно выше нас!»
Рабовладение — движущая сила римского экспансионизма
Рабов требовалось все больше, и все больше их мерло от непосильного труда. Отсюда возникло новое противоречие. Так как рабский труд был полезен лишь в крупных масштабах, а сами рабы не воспроизводились в достаточных количествах — их запас приходилось пополнять с помощью войн. Именно ради поголовья невольников Риму приходилось постоянно воевать.
Само собой, владельцы крупных состояний всегда поддерживали новые войны как самый эффективный способ заполучить дешевых рабов и новые территории. Это дало сильнейший стимул римскому экспансионизму. После Пунических войн римляне воевали зачастую лишь ради охоты на новых рабов. Постоянный приток дешевых рабов играл главную роль в развитии римской экономики. Именно поэтому война была необходимым элементом римского рабовладения. В течение двух столетий Рим покорил все земли, окружающие Средиземное море и обратил оружие против Галлии, захват которой обеспечивал богатый урожай рабов.
Все войны теперь заканчивались порабощением больших людских масс, обреченных пожизненно трудиться на римских шахтах и латифундиях. Так, в ходе третьей войны Рима с Македонией в 169 г. до н. э. только в Эпире были разрушены семьдесят городов, а 150 000 их жителей проданы в рабство. Как рассказывает Аппиан, военнопленные из Понта стоили всего 4 драхмы (менее доллара по современному курсу). Когда Тиберий Гракх совершил поход в Сардинию, он захватил 80 000 пленных и отправил их в Рим на невольничий рынок. Тогда даже пошла гулять поговорка: «дешев как сардинец».
К концу республиканской эры рабы присутствовали на всех уровнях общественной жизни. Они строили здания, акведуки и дороги. Они работали плотниками и кузнецами, ремонтировали инструменты и повозки. Другие пасли и обихаживали скот, стригли овец, пряли шерсть и скручивали из нее канаты, которые использовалась в армии и на флоте. Продукты труда римских невольников, такие как вино, масло, инструменты, мясо, шли на экспорт в другие области. Рабы вели дела, готовили пиры, декламировали греческие стихи (а зачастую сами и писали их). Наконец они развлекали народ в роли гладиаторов.
Восстания рабов
Однако никакое рабство невозможно без жестокого террора. Условия жизни рабов постоянно ухудшались, особенно на закате республики. Раб не имел никаких прав и должен был соглашаться на любые условия его хозяина. Он работал с рассвета до заката, жил в казарме и ел ровно столько, сколько надо для поддержания жизни. Вольнонаемный рабочий (по крайней мере, теоретически) может выбирать себе работодателя и бросить работу, если его не устраивает зарплата. Для раба это было немыслимо. Конечно, он мог попытаться бежать, но за побегом или отказом от работы следовала казнь.
Жестокость рабовладельцев сдерживало только одно — боязнь понести убытки. Поэтому о рабах заботились как о домашнем скоте, не больше и не меньше. Если раб умирал — владельцу приходилось раскошеливаться на покупку нового. Чем дефицитней были рабы, тем им лучше жилось. Однако в период непрерывных побед римского оружия, рабы были крайне дешевы, и не было никакой причины относиться к ним гуманно. Постоянные внешние и гражданские войны сильно снизили стоимость рабов на рынке, так как поток невольников не иссякал.
Появилась даже пословица: «много рабов — много врагов». Именно поэтому Платон, Аристотель и карфагенянин Маго предупреждали рабовладельцев об опасности объединения рабов по национальному признаку, так как им так будет легче организоваться и устроить заговор против своих хозяев. Рабовладельцы постоянно опасались восстания рабов. Свободные римляне жили словно на вулкане, в любой момент опасаясь извержения. Поэтому всякое, даже мнимое, неповиновение каралось с чрезвычайной жестокостью. За мельчайший проступок полагались изощренно-садистские наказания.
В глазах закона раб был частной собственностью рабовладельца; власть хозяина над ним (dominica potestas) была абсолютной. Его можно было мучить, избивать, даже убить, если он состарится или заболеет. Раб не мог владеть собственностью, заключать сделки, жениться. Допрос раба проводился только под пыткой. За попытку побега его пороли или даже казнили. История знает множество случаев невероятной жестокости в отношении рабов. За разбитое рабом Ведиусом Поллио блюдо, его бросили в бассейн на съедение муренам.
За плохую работу или непослушание рабов подвергали телесным наказаниям. За более серьезные правонарушения — продавали в гладиаторы. Восстание рабов было вечным кошмаром для всей рабовладельческой Италии. За любое покушение на жизнь хозяина или участие в мятеже преступника и всех его родных карали самой мучительной смертью — распятием. После разгрома восстания Спартака, Помпей распял шесть тысяч восставших на крестах вдоль Аппиевой дороги. Среди рабов слово «крест» (crux) использовалось как проклятие.
Несмотря на все эти репрессивные меры, бунты рабов вспыхивали постоянно. Мы знаем несколько крупномасштабных восстаний, самое известное из которых — восстание Спартака.47 Первое известное восстание рабов произошло в 135-132 гг. до н. э. в Сицилии. Причиной его был передел собственности после изгнания с острова карфагенян во второй Пунической войне, когда орда итальянских спекулянтов захватила земли сицилийцев, отошедшие к Риму. Сицилийцы, принадлежащие к проримской партии, разбогатели за счет своих соотечественников, став крупными землевладельцами.
После войны Италии требовалось много зерна. Именно поэтому на Сицилию доставлялись все новые и новые партии рабов, для работы в латифундиях. Хозяева не заботились даже о пище и одежде для своих невольников, предоставляя им добывать все необходимое собственными силами. Естественно, на острове процветали разбои и грабежи. Рабы грабили сицилийскую бедноту, на что их хозяева закрывали глаза, так как были рады переложить расходы на чужие плечи. После семидесяти или восьмидесяти лет такого положения дел вспыхнула Война рабов, которая велась с крайней жестокостью.
Римские источники дают нам некоторое представление об ужасном положении рабов, которое и привело к этому восстанию и последовавшим за ним жестокостям. Рабовладелец Дамофил вместе со своей женой превзошли всех в своей свирепости:
«36. Покупая большое количество рабов, он обращался с ними жестоко, накладывал клейма раскаленным железом на тела тех, кто был рожден свободным на своей родине, но испытал плен и рабскую судьбу. Одних он отправлял скованными на общие работы, других назначал пастухами, но не давал им ни одежды, ни достаточной пищи.
- Не проходило дня, чтобы Дамофил в своем самоуправстве и жестокости не истязал нескольких из своих слуг за самые пустые провинности. Его жена Мегаллида наслаждалась изысканными наказаниями, не менее жестоко относилась к своим служанкам и приставленным к ее услугам рабам. И из-за оскорблений и мучительства обоих рабы ожесточились против своих господ и решили, что ничего более худшего по сравнению с тем, что они испытывают, с ними не случится».48
Доведенные до предела восставшие отомстили своим мучителям. Дамофила убили, а Мегаллиду отдали на расправу ее же бывшим рабыням. Тем не менее, рабы пощадили хозяйскую дочь, известную своим добросердием — это признают даже римские историки, отмечая, что рабы не были кровожадными чудовищами от природы, но лишь мстили за причиненные им обиды. Если верить римским авторам, после захвата армией рабов города Энна, «множество» его жителей было предано смерти. Но тут необходимо помнить, что римляне сознательно мазали мятежников черной краской, для того чтобы оправдать кровавые расправы над ними.
Мы мало что знаем о лидере этого восстания, за исключением того, что он был свободнорожденным рабом по имени Евн, скорее всего, сирийского происхождения. Восстав, он провозгласил себя «царем Антиохом». Римляне считали его колдуном, так как не могли поверить, будто простой раб или вольноотпущенник способен опрокинуть их власть, и потому приписывали ему магические способности (те же бредни рассказывали и о Спартаке). Армия Евна завладела востоком острова. Античный источник сообщает:
«В три дня Евн вооружил, насколько это было возможно, более 6000 человек топорами, секирами, пращами, серпами, обожженными палками, поварскими вертелами и прошел по всей Сицилии, предавая все разграблению. Присоединив к себе огромное количество рабов, он осмелился вступить в борьбу с римскими военачальниками и часто одерживал над ними верх благодаря численному превосходству, так как имел в своем распоряжении более 10 000 вооруженных людей».49
Одновременно, в западной части Сицилии, раб по имени Клеон (естественно, также объявленный чародеем) взбунтовал тамошних невольников. Интересно, что Клеон был надзирателем над другими рабами, то есть человеком, достаточно умным и волевым для этой должности. История знает много подобных примеров. Большинство военных мятежей поднимали и возглавляли сержанты или младшие офицеры. Люди подобного склада нередко становятся лидерами рабочего класса.
Тот же самый источник продолжает:
«17. В это время некий киликиец Клеон поднял другое восстание рабов. Все были полны надежд, что восставшие начнут междоусобную войну и истребят друг друга, освободят Сицилию от мятежа, но они против ожидания объединились. Клеон, имея у себя 5000 бойцов, добровольно отдался под власть Евна, тем самым как бы пополнив недостаток у царя в полководцах».50
Римские авторы поневоле отдают дань храбрости восставших рабов:
«18. Вскоре после этого около 30 000 восставших разбили прибывшего из Рима претора Луция Гипсея с восьмитысячным отрядом сицилийских войск. Скоро число мятежников дошло до 200 000.51 Чем больше побед одерживали они над римлянами, тем меньше сами терпели поражений».52
Важно отметить, что слухи о восстании на Сицилии вызвали бунты рабов и в других местах — даже в Риме:
«19. Когда молва об этом распространилась, во многих других местах также начались заговоры и восстания рабов: в Риме 150 рабов, в Аттике более 1000, на Делосе и других местах, но все эти движения были подавлены в каждом отдельном случае или быстрыми и суровыми мерами властей, или вразумлениями и другими средствами, поскольку они оказывались пригодными при восстании.
- В Сицилии же зло росло, города забирались вместе с людьми, и много военных отрядов было уничтожено повстанцами. Наконец римский консул Рупилий отбил для римлян Тавромений, тесно обложив его и доведя осажденных до невыразимой нужды и голода. Начав питаться детьми, они перешли затем к женщинам и кончили взаимным истреблением. Здесь был захвачен брат Клеона Коман, пытавшийся бежать из осажденного города».53
Римский сенат вынужден был бросить на подавление рабов римскую армию. Источники, дошедшие до нас, описывают Евна как посредственного, но плутоватого человека; однако необходимо помнить, что это слова его врагов, которые желали всячески очернить Евна. Его заместитель Клеон был ответственен не за одну победу над римлянами; но это представляется только как следствие его «злобности». Этот лидер восставших, должно быть, обладал выдающимися способностями, раз уж смог так долго и успешно противостоять превосходящим силам. Клеон погиб в сражении, а Евн был схвачен, но умер прежде чем его успели казнить.
Так завершилось первое из трех восстаний рабов в римской республике. Второй мятеж произошел в 104-100 гг. до н. э. Предводитель рабов по имени Сальвий захватил восток Сицилии, в то время как Афенион поднял восстание на западе острова. Риму потребовалось четыре года, чтобы подавить восстание. Консул Маний Аквилий с огромным трудом разгромил восставших. Помимо этих мятежей и грандиозного восстания Спартака, война с Аристоником и его «гелиополитами» в Малой Азии, в сущности, тоже была ничем иным как войной землевладельцев против взбунтовавшихся рабов.
В некоторых местах к рабам присоединялись свободные чернорабочие. Даже такой крупный остров как Сицилия, некоторое время находился в руках рабов. Согласно самым умеренным оценкам, армия рабов доходила до 70 000 человек, способных держать в руках оружие.54 Гарантировать полное подчинение рабов после таких восстаний, можно было только с помощью самых безжалостных и зверских расправ. Поэтому каждое подобное восстание заканчивалось кровавой резней. В столице Сицилии были казнены 150 рабов, в Минтурне 450, а в Синуессе — не менее 4 000. После подавления невольничьего мятежа, консул Публий Рупилий приказал убить всех пленных рабов, замучив в целом около 20 000 человек.
Братья Гракхи
Развитие денежной экономики
Первоначально в римской республике существовала аграрная экономика, основанная на натуральном сельском хозяйстве. Основную массу населения составляли вольные крестьяне, которые сами потребляли практически все, что производили, выделяя для обмена крошечный излишек. Деньги не играли почти никакой роли в экономической жизни. Но последующий период войн и завоеваний радикально изменил римскую экономику. После превращения Рима в мировую державу и, как следствие, расширения торговли до международных масштабов, деньги становятся все более значимыми — поначалу это было серебро, а затем медь и золото. Рыночные и денежные отношения начинают доминировать в экономике страны.
Все это привело к разложению старых социальных форм. Взлет финансовой системы положил конец относительному равенству первых веков республики — его место заняла стремительная поляризация между богатыми и бедными, которая уже не соответствовала старым племенным отношениям между плебеями и патрициями, аристократией и простолюдинами. Как мы уже отмечали, распространение рабского труда не только уничтожало класс свободного крестьянства, но и нивелировало ценность свободного труда вообще, низводя свободных пролетариев до уровня, мало отличного от рабского.
С ростом денежного обращения и торговли росла и власть римских капиталистов. Новый собственнический класс сформировался на фундаменте денежного обращения, товарного производства и рабского труда. Словом equites («всадники», от слова equus — «лошадь») первоначально назывались граждане, которые имели лошадь для службы в армии, но теперь так стали называть всех, кто имел состояние более 4 000 000 сестерциев — своего рода римскую буржуазию, новую «аристократию» из числа спекулянтов, сборщиков налогов, торговцев и т. п.
С появлением новых производственных отношений старый мир свободных земледельцев и былых республиканских добродетелей, основанных на воинской доблести, рухнул. Исчезла хваленая римская скромность. Новыми богачами зачастую становились простые римляне, и даже вольноотпущенники (бывшие рабы). Эти «новые римляне» не имели аристократической родословной, но зато они имели золото и всячески выставляли его напоказ. Нувориши одевались в дорогие шелка, заказывали дорогие заморские вина и покупали дорогих греческих рабов, которые читали им Гомера во время шикарных пиршеств, хотя чаще всего хозяин и гости мало, что понимали из услышанного. Приверженцы «старых добрых» порядков, вроде Катона, осуждали эту показную роскошь, демонстративно расхаживая в крестьянских отрепьях и работая вместе со своими невольниками, но теперь на подобных людей смотрели как на чудаков. Такое поведение стало считаться анахронизмом.
Хотя у капиталистов и аристократов были схожие экономические интересы — и те, и другие были сторонниками частной собственности — их политические взгляды весьма расходились. Власть родовой аристократии опиралась на контроль над сенатом, но все чаще и все сильнее на римскую политику стали оказывать влияние всадники. Поскольку эти «новые римляне» постепенно становились обладателями огромных богатств, они чувствовали себя все более уверенно и независимо и требовали большей власти. Они постоянно сражались за политическую власть со старыми патрицианскими родами, порождая тем самым напряженность и антагонизм в римской республике.
Родовая аристократия
Несмотря на уступки «новым римлянам», на которые вынуждены были пойти патриции в предыдущий период, они были слабо представлены в государственных правящих кругах. Власть все еще находилась в руках узкого, закрытого круга привилегированных семей. Около 2 000 человек, представлявших менее двадцати родов, управляли государством и присваивали львиную долю военной добычи. Хороший пример — род Сципионов, представители которого за сто лет не менее двадцати раз занимали должность консула. Именно такое положение было постоянным источником разногласий между капиталистами и патрициями.
Эти старинные аристократические роды держали в своих домах восковые посмертные маски своих предков, которые при жизни были консулами. Во время похорон эти маски несли впереди погребальной процессии и произносили в их честь напыщенные речи.
Таким образом, Рим оставался в руках узкого аристократического круга, хотя экономические и классовые отношения полностью изменились. Политическая надстройка более не соответствовала экономическому базису. Нарыв давно назрел, и он прорвался в ходе самой жестокой классовой борьбы.
Рим разделился на два или даже три противоборствующих центра власти, каждый из которых отражал интересы различных классов: официальная государственная власть — сенат, контролируемый патрицианской олигархией; избирательные собрания или комиции, управляемые представителями среднего класса, и народные собрания, где задавали тон беднейшие и угнетенные группы городского населения и пролетариата, включая уличных оборванцев, евреев и египтян. Политическая жизнь республики весьма усложнилась. Чтобы заручиться союзниками в борьбе с потомственной аристократией, самое радикальное крыло так называемой «народной партии» пыталось опереться на массы, точно так же как позже, в эпоху Французской революции, якобинцы искали поддержки у санкюлотов.
Народные собрания не имели никаких реальных полномочий, но на практике они по существу контролировали улицу. И власть улицы возрастала все больше. Городской люмпен-пролетариат, сформировавшийся из озлобленных безземельных крестьян, был постоянно готов к бунту. Плутарх ярко описывает, как велась народная агитация в те времена. В «Жизнеописании Тиберия Гракха» он рассказывает о простых римлянах, выражавших свое недовольство, «расклеивая на стенах домов и стелах листовки»,55 где требовали вернуть имущество обедневшим гражданам. Именно в такой накаленной обстановке и развернули свою деятельность Гракхи.
Аграрный вопрос
Период упадка Римской республики был отмечен яростными классовыми стычками, а также ожесточенной борьбой за власть между разного рода авантюристами из политиков и военачальников. Но помимо официальной истории этого периода, у него была и тайная история. Маркс писал в «Капитале»: «Кроме того, не надо обладать особенно глубокими познаниями, например, по истории Римской республики, чтобы знать, что секрет ее истории заключается в истории земельной собственности».56
Как правило, завоеванные Римом земли частично присваивались государством, которое сдавало их в аренду за небольшую подать. Но богачи, способные предложить казне больший доход, стали вытеснять бедняков. Земли Италии все сильней и сильней подпадали под власть богатеев. Это подтверждает старое высказывание о том, что собственность — девять десятых закона. Независимо от того, какими сомнительными средствами приобреталась земля, через какое-то время она становилась по существу собственностью захватчика. Таким образом, народ постепенно лишился общественных земель — и это стало главной точкой конфликта в развернувшейся позднее классовой войне.
Законодатели неоднократно пытались урегулировать земельную проблему законным путем — результат борьбы беднейших классов, стремящихся закрепить свою долю в ager publicus. Казалось, что юридически это будет несложно, поскольку общественные земли занимались без какого-либо законного основания. Но закон, тем более в отношении собственности, всегда стоит на стороне богатых и могущественных. Так как аграрное законодательство противоречило интересам и привилегиям богачей, оно не действовало на практике. Богатые классы не собирались отдавать захваченные земли — а именно они управляли государством и писали законы. Они нагло попирали и игнорировали земельные права.
Старые земельные законы, принятые Лицинием (367 г. до н. э.), ограничивали количество земли, которой мог владеть гражданин, а также количество мелкого и крупного рогатого скота, которых он мог пасти на общественном пастбище. Некоторые общественные земли распределялись между бедными гражданами. Но примерно с 233 г. до н. э. эти правила практически перестали применяться, и беднякам больше не на что было рассчитывать.
Тиберий Гракх
Следующей серьезной попыткой разрешить аграрный вопрос был закон Семпрония 133 г. до н. э. Эти события навсегда будут связаны с именем одного из самых замечательных представителей римской истории: Тиберия Семпрония Гракха. Тиберий Гракх и его брат Гай (известные в истории как братья Гракхи) принадлежали к знатной аристократической семье. Они были сыновьями Семпрония Гракха и Корнелии, дочери Сципиона Африканского, победителя Ганнибала.
Имея такую прекрасную родословную, Тиберий мог претендовать на любую высшую государственную должность. Вместо этого он полностью порвал со своим классом и стал самым известным лидером римских плебеев и пролетариев. Несмотря на высокородное происхождение, Тиберий Гракх стал именно тем человеком, который нарушил социальное и политическое равновесие республики.
Случаи, когда члены правящего класса переходят на сторону революции, не так уж редки в истории. Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» объясняли: «Наконец, в те периоды, когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее».57
Мы можем наблюдать этот процесс и в более ранние времена. Маркс указывал, что в эпоху распада феодализма группы дворян переходили в лагерь буржуазии. Так и в период обострения классовой борьбы в римской республике, отдельные люди порывали со своим классом и пытались представлять интересы угнетенных. Можно сказать, что у Гракхов не было последовательной революционной программы, они колебались и искали компромисс, что, в конце концов, их и погубило. Но если вспомнить, что эти люди не имели никаких особых причин пойти на то, на что они пошли, и за что они отдали свои жизни — следует воздать должное их отваге, а не их слабостям.
Тиберий Гракх несомненно был человеком самых высоких принципов и выдающихся способностей. Это вынуждены были признавать даже его противники. Спустя семьдесят пять лет после смерти Гракха, Цицерон называл его одним из лучших ораторов Рима, правда, сожалея о его политических взглядах: «Мне очень жаль, что Тиберий Семпроний Гракх не обладал столь же хорошими политическими намерениями, как его ораторские таланты»,— и продолжал, — «тогда его слава была бы самой великой в мире».58
Сегодня его реформы не кажутся чрезмерно радикальными, но в то время они были действительно революционны. Для римских политических деятелей было неслыханно решать социальные или экономические проблемы — такие вопросы редко когда становились причиной сенатских дебатов. Прежде римляне и не представляли, что сенатор или политик может говорить от имени определенного социального класса. Тиберий первым обратился к лицом к нарастающим проблемам Рима, и попытался разрешить экономический кризис в сельской местности, путем аграрной реформы.
Столкновение Тиберия с сенатом
Как он стал революционером? Скорее всего, причин было несколько. Цицерон писал: «Он занял свой пост только потому, что благородные возмущали его».59
Первое его столкновение с сенатом происходит во время войны с нумантинцами в Испании (153 г. до н. э.). Именно тогда его имя впервые привлекло общественное внимание. В Испании он заинтересовался аграрным вопросом, наблюдая упадок земледелия в Этрурии. Плутарх пишет:
«…Тиберий, держа путь в Нуманцию, проезжал через Этрурию и видел запустение земли, видел, что и пахари и пастухи — сплошь варвары, рабы из чужих краев, и тогда впервые ему пришел на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед».60
Он собственными глазами увидел, как сокращалось количество мелких итальянских фермеров, которые и составляли основную массу римских солдат, из-за невозможности конкурировать с огромными поместьями, где трудились огромные армии рабов. Небольшие земельные наделы, хотя и не исчезли полностью, повсюду находились в упадке. Тиберий Гракх сделал вывод, что уничтожение класса свободных крестьян подорвет силу Рима.
Тиберий Гракх, происходивший из аристократической семьи, возможно, рассчитывал на выдающуюся сенаторскую карьеру, подобную карьере его отца: он мог стать консулом или цензором. Но его карьеру подорвало опрометчивое решение принятое им в Испании. Во время войны с нумантинцами Тиберий служил квестором. Он проявил себя как отважный и честный военачальник. Его репутация честного и справедливого человека была настолько безупречной, что нумантинцы согласились вести переговоры только с ним — другим римлянам они не доверяли, считая их обманщиками.
Его последующие поступки породили инцидент, который изменил всю его жизнь и саму римскую историю. Ради спасения армии Манцина, которой грозил полный разгром, Тиберий, не боясь за свою репутацию, заключил мирный договор с испанцами — без санкции сената. Плутарх считает, что тем самым он спас от смерти 20 000 римских жизней. Но возникла одна проблема. Сенат отменил это решение, командующий Манцин был закован в цепи и послан обратно в Нуманцию.
Такой поступок сената унизил Тиберия. Он, римский аристократ, не мог позволить себе потерять dignitas — более сложное понятие, чем достоинство. Он потерял не только достоинство, но и статус, и честь. Тиберий дал слово нумантинцам, а сенат растоптал его. Он считал это крайне постыдным для себя, ведь он не просто предал нумантинцев — он был опозорен перед ними. Его шурин Сципион Эмилиан приложил немало усилий, чтобы спасти Тиберия от позора, но ничего не помогло. Эти события оказали сильное воздействие на Тиберия Гракха и дали толчок череде последствий, роковым образом сказавшихся на римской истории последующих ста лет.
Тиберий Гракх стал заклятым врагом сената и римской аристократии. Войдя на политическую арену в 133 г. до н. э., он смог до основания потрясти римскую политическую систему, став народным трибуном. Это был смелый и роковой шаг. Трибун имел важные полномочия: он мог налагать вето на любой закон. Правящие верхи всегда полагали, что будет нетрудно подкупить народного трибуна и использовать его для сдерживания масс. Им в головы не проходило, что народным трибуном сможет стать такой независимый политик как Тиберий Гракх или что этот пост станет серьезным оружием в попытке изменить общество. Они жестоко просчитались.
Как только Гракх стал народным трибуном, выяснилось, что он будет использовать свои полномочия для борьбы с консулами. Действуя в рамках закона, он делал то, чего от него никто не ожидал. Ситуация обострилась. Это было точно так же, как если бы лидеры современных лейбористов стали использовать машину формальной парламентской демократии для экспроприации буржуазии. Просто немыслимо! Такая позиция сделала Тиберия Гракха смертельным врагом сената. Аристократия ненавидела его еще и потому, что считала предателем своего класса. Он стал первым членом римского сенаторского сословия, который выступил против них. Его действия возмутили корпоративный дух правящего класса. Они жаждали уничтожить его. Но и Тиберий был готов к борьбе.
Земельный вопрос
Несомненно, Тиберий Гракх был отважным и искренним человеком, убежденным сторонником перемен. Он был социальным реформатором, идеалистом и последователем стоической философии. Его критики говорили, что он слишком долго изучал греков.
«Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью продавали, а частью, обратив в общественное достояние, делили между нуждающимися и неимущими гражданами, которые платили за это казне умеренные подати. Но богачи стали предлагать казне большую подать и таким образом вытесняли бедняков, и тогда был издан закон, запрещающий владеть более, чем пятьюстами югеров. Сперва этот указ обуздал алчность и помог бедным остаться на земле, отданной им внаем, так что каждый продолжал возделывать тот участок, который держал с самого начала. Но затем богачи исхитрились прибирать к рукам соседние участки через подставных лиц, а под конец уже и открыто завладели почти всею землей, так что согнанные с насиженных мест бедняки и в войско шли без всякой охоты, и к воспитанию детей проявляли полное равнодушие, и вскорости, вся Италия ощутила нехватку в свободном населении, зато все росло число рабских темниц: они были полны варваров, которые обрабатывали землю, отобранную богачами у своих сограждан».61
Как мы уже отмечали, согласно его современникам он был прекрасным оратором. Вот его речь, приписываемая ему Плутархом, но она, несомненно, передает дух его агитации:
«…взойдя на ораторское возвышение, окруженное народом, говорил о страданиях бедняков примерно так: дикие звери, населяющие Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света, бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врага родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не осталось отчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм его предков, нет! — и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти «владыки вселенной», как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!»62
Несмотря на свою непримиримую вражду к аристократии, Тиберий Гракх сумел заручиться поддержкой важных покровителей для своей кандидатуры в трибуны, включая многих важных сенаторов и экс-консулов. Это было следствием либо старых личных и семейных связей, либо несерьезного отношения к его популистской пропаганде. Так же члены британского истеблишмента легкомысленно относились к членству в компартии представителей высшего сословия и выпускников Итона и Кембриджа: Кима Филби, Дональда Маклина и Гая Берджесса, пока не узнали об их работе на советскую разведку.
Если б они внимательно изучили его программу, то поняли бы всю серьезность его намерений.
Закон Семпрония
Поддержка, которую Гракх поначалу получил у одного из самых влиятельных римских политических деятелей, показывает, что, по крайней мере, часть правящего класса осознавала необходимость аграрной реформы. Да и предложения его на тот момент не отличались радикализмом. Многие из латифундий фактически располагались на общественных землях, арендованных по смехотворной цене (если кто-то вообще что-либо платил) у государства. Тиберий предложил распределить общественную землю среди городской бедноты.
Законы Лициния устарели, их легко обходили, но никто не отменял. Потому Тиберий Гракх мог без труда играть на легальности своих реформ. Закон Семпрония подтверждал Лициниевы законы и увеличивал максимальное пособие на каждого сына. Наделы должны были быть сокращены до юридического максимума, предоставленного бедным. Эти предложения гарантировали Гракху общественную поддержку и избрание его трибуном в 133 г. до н. э. Но его реформы постоянно блокировались патрициями и поэтому приобрели революционный характер.
Тиберий предложил ограничить земельные владения граждан пятьюстами югерами (125 гектаров). Чтобы задобрить крупных землевладельцев, он предложил поправку, по которой нынешним владельцам общественной земли, помимо 500 югеров разрешалась иметь еще по 250 югеров на каждого ребенка. Таким образом, любой богач мог располагать тысячей югеров. Остальную общественную землю полагалось разделить на наделы в 30 югеров и распределить между беднейшими гражданами. Он планировал создать тысячи новых землевладельцев, которые будут служить в римской армии. Предоставленные земли нельзя было делить или отчуждать. Их запрещалось продавать или передавать кому-либо, кроме прямых наследников.
В компенсацию потерь при земельном переделе, владельцы получали все права на оставшуюся у них землю. Это была огромная уступка богатым землевладельцам, которым разрешалось владеть большим количеством общественных земель, в дополнение к любым другим имеющимся у них владениям, которые оставались нетронутыми. В результате, устаревший закон Лициния был пересмотрен, и крупные землевладения узаконивались. Это было сделано для того, чтобы реформу приняли крупные землевладельцы. Таким образом, Тиберий надеялся ослабить оппозицию земельных собственников начатой реформе. Но эти надежды не оправдались.
Несмотря на умеренность предложений, богатые классы выступали против любых реформ Тиберия Гракха. Вот как Плутарх описывает их настроения:
«При всей мягкости и сдержанности этой меры народ, готовый забыть о прошлом, радовался, что впредь беззакониям настанет конец, но богатым и имущим своекорыстие внушало ненависть к самому закону, а гнев и упорство — к законодателю, и они принялись убеждать народ отвергнуть предложения Тиберия, твердя, будто передел земли — только средство, настоящая же цель Гракха — смута в государстве и полный переворот существующих порядков».63
Как злободневно звучат эти слова! В наши дни правящий класс использует всю мощь СМИ, чтобы начать кампанию по «защите демократии» от социализма. Американские масс-медиа истерически реагируют на самые робкие попытки перестроить систему здравоохранения, объявляя планы подобной реформы «коммунистической угрозой» и «советизацией медицины». Отсюда хорошо видно, как мало изменилась классовая война за более чем 2 000 лет. Меняются времена и страны, но психология правящего класса остается неизменной.
Аристократическая реакция
Для консервативных сил, заправлявших в сенате, даже мельчайшие политические различия становились крайне принципиальными. Самая робкая попытка ограничить их власть казалась им покушением на республику. Особенно возмутительным казалось то, что инициатором реформ выступал представитель их класса. Тиберий Гракх понимал, что его ждет жестокая борьба. Десятью годами ранее, в 145 г. до н. э., похожую реформу пытался провести Кай Лелий, но его предложения были отклонены сенаторами.
Вполне естественно, что самыми ярыми противниками реформ были крупные посессоры (землевладельцы). Пред ними замаячила перспектива потерять большую часть занимаемых ими общественных земель, а частной земли у многих не было вовсе. Многие сенаторы располагали лишь латифундиями на общественных землях. Они объявили планируемые реформы нарушением священных прав собственности. Посессоры понимали, что перераспределение земель привлечет на сторону Тиберия около 70 000 семей. Принятие Гракховского закона стало бы для них большой бедой. Самым непримиримым противником реформы был бывший в 138 г. до н. э. консулом Публий Корнелий Сципион Назика, имевший крупные земельные наделы на общественных землях.
Инициируя аграрную реформу, Гракх совершил революционный шаг, представив проект закона на рассмотрение не сената, а народного собрания (concilium plebis). Обычай (пусть и не имевший законной силы) требовал обращения к сенату. Почему Тиберий Гракх пошел на это? Причина неясна. Может, он хотел отомстить сенату за предательство во время нумантийской кампании? Вероятнее, впрочем, что он решил обойти сенат, где ожидал встретить ожесточенное сопротивление, и потому напрямую воззвал к народу.
Независимо от побудительных причин, этот шаг оскорбил сенаторов. Они сделали все возможное, чтобы заблокировать принятие закона. Когда пришла пора голосовать, оказалась, что партия богатых захватила урны для голосования. Массы готовы были броситься на своих противников. Рим оказался перед угрозой начала революции. Но ситуация была спасена хитростью правящего класса и нерешительностью вождей народной партии. Двое богатейших представителей сената Манилий и Флавий бросились на колени перед Тиберием, умоляя его приостановить слушания, и передать вопрос на рассмотрение сената.
Тиберий «из уважения к их заслугам» согласился. Это показывает ограниченность его намерений. Несмотря на всю свою честность и искренность, он все еще надеялся убедить сенат в правоте своих планов. Тиберий обратился к сенату. И чем это кончилось? Решение принято не было, так как в сенате доминировали олигархи. Массы оказались деморализованы и временно потеряли инициативу.
Вмешательство масс
Поведение Тиберия Гракха можно объяснить тем, что он планировал не революцию, а реформу — но такую реформу, которая предотвратит бунт и спасет республику путем аграрной реформы, способной спасти мелкое крестьянство. Но для богачей и властителей такие предложения равнялись требованию уничтожения собственности, государства и всеобщей революции. Почуяв угрозу своему благополучию, аристократия стала вооружать своих сторонников и рабов. Богачи готовились к войне.
Была сформирована комиссия по принятию закона, но сенат организовал саботаж, чтобы помешать этому. Был пущен слух, что Тиберий желает провозгласить себя царем. Сенаторы устроили уличную демонстрацию, шествуя на Форум в траурных одеждах, как бы хороня республику. Это была часть плана по подготовке контрреволюционного террора.
Узнав о перспективе получить землю, в Рим стали стекаться толпы крестьян, чтобы проголосовать в народном собрании за новый законопроект. Сенат поспешил нанести упреждающий удар. Подкупленный аристократами второй трибун Марк Октавий наложил на закон вето. Это был скандал, так как Октавий использовал свое положение вопреки воле людей, которых он должен был представлять. Трибунов избирали, чтоб отстаивать интересы простонародья, но трибуны развращались и подкупались, становясь игрушкой в руках сенаторов. Казалось, что вето наложенное трибуном, похоронило реформу.
Богатые ожидали, что Тиберий или отступит, или пойдет на сделку с сенатом. Вместо этого он сам перешел в наступление. Сперва он предложил оплатить из своего кармана любые убытки, которые понесет Октавий (сам бывший землевладельцем) из-за реформы, если тот отзовет свое вето. Октавий отказался. Тогда Гракх пригрозил отзывом его с должности трибуна (у римлян было такое право).
В отчаянной попытке избежать лобовой конфронтации, Тиберий обратился к Октавию перед народным собранием. Плутарх ярко описал произошедшее:
«На следующий день, когда народ снова заполнил площадь, Тиберий, поднявшись на возвышение, снова пытался уговаривать Октавия. Октавий был неумолим, и Тиберий предложил закон, лишающий его достоинства народного трибуна, и призвал граждан немедленно подать голоса. Когда из тридцати пяти триб проголосовали уже семнадцать и не доставало лишь одного голоса, чтобы Октавий сделался частным лицом, Тиберий устроил перерыв и снова умолял Октавия, обнимал и целовал его на виду у народа, заклиная и себя не подвергать бесчестию, и на него не навлекать укоров за такой суровый и мрачный образ действий. Как сообщают, Октавий не остался совершенно бесчувствен и глух к этим просьбам, но глаза его наполнились слезами, и он долго молчал. Затем, однако, он взглянул на богатых и имущих, тесною толпою стоявших в одном месте, и стыд перед ними, боязнь бесславия, которым они его покроют, перевесили, по-видимому, все сомнения — он решил мужественно вытерпеть любую беду и предложил Тиберию делать то, что он считает нужным. Таким образом, закон был одобрен, и Тиберий приказал кому-то из своих вольноотпущенников стащить Октавия с возвышения. Служителями и помощниками при нем были его же отпущенники, а потому Октавий, которого насильно тащили вниз, являл собою зрелище особенно жалостное; и все же народ сразу ринулся на него, но богатые граждане подоспели на помощь и собственными руками заслонили от толпы Октавия, который насилу спасся, между тем как его верному рабу, защищавшему хозяина, вышибли оба глаза. Все случилось без ведома Тиберия — напротив, едва узнав о происходящем, он поспешил туда, где слышался шум, чтобы пресечь беспорядки».64
В этих строках ясно видно классовое противостояние. Две противоборствующие силы — олигархия и массы — сошлись в поединке. Это столкновение непримиримых интересов. Между ними стоит социальный реформатор Тиберий Гракх, который привел в движение силы, вышедшие из-под контроля. Он начинает бояться, что ситуация выскользнет из его рук, и умоляет оппонентов пойти на соглашение, но противники не собираются уступать. В ситуацию вмешиваются возмущенные массы, угрожая противникам реформ. Партии богатых приходится идти на уступки.
После того как Октавий повторно отказался отозвать вето, его тут же сместили. Римский историк Аппиан так описывает эйфорию, охватившую народ:
«А он, гордясь проведенным законом, был сопровождаем до дома народом, смотревшим на него как на устроителя не одного какого-либо города, не одного племени, но всех народов Италии. После этого одержавшие верх в собрании разошлись по своим землям, откуда они пришли для проведения закона; потерпевшие же поражение продолжали питать недовольство и говорить: не обрадуется Гракх, когда он сам станет частным человеком, Гракх, надругавшийся над священною и неприкосновенною должностью народного трибуна, Гракх, давший такой толчок к распрям в Италии».65
Саботаж Сената
Убедив народное собрание отозвать трибуна, Тиберий пошел на беспримерные в римской истории действия. Цицерон приводил этот пример разногласий между трибунами, как замечательный пример римского законодательства:
«Власть плебейских трибунов, — скажешь ты, — чрезмерна». Кто отрицает это? Но сила народа бывает гораздо более дика и необузданна, а ведь она, когда у народа есть вожак, иногда бывает более мягкой, чем при отсутствии вожака… И в самом деле, найдется ли столь обезумевшая коллегия, чтобы в ней ни один из десяти членов не был в здравом уме, когда даже против Тиберия Гракха не преминул совершить интерцессию трибун, уже не говорю — отстраненный, нет, лишенный полномочий? И что другое нанесло удар Тиберию Гракху, как не то, что он отнял у коллеги власть совершать интерцессию?»66
Сенат потерпел поражение, но не собирался сдаваться. Земельный закон Тиберия, наконец, был принят, а Октавия сменил другой трибун. Но богачи все еще имели сильные позиции: полный контроль над финансами. Была создана комиссия для распределения общественных земель. Однако сенат всячески препятствовал проведению реформы, отказываясь предоставить средства, необходимые для создания малых земельных хозяйств. Без денег, обеспечивающих их основные нужды, мелкие хозяйства выжить не могли.
Гракх пошел на решительный шаг, который еще сильнее обострил противостояние. В то же самое время скончался царь Пергама Аттал. Умерев бездетным, он завещал свои сокровища Риму. Тиберий предложил разделить их между римскими гражданами и обустроить на эти средства фермы новых поселенцев. И он использовал большую часть денег для нужд аграрной комиссии.
Благодаря этому шагу, комиссия смогла начать передел земель. Такие действия шли вразрез с традициями, по которым только сенат мог контролировать иностранные дела. И хотя на то не было писаного закона, действия Тиберия стали вызовом сенату. Но это было еще не все. Трибун предложил сократить время несения военной службы и ввести право обжалования решений жюри (до того момента состоящего исключительно из сенаторов). Короче говоря, он всеми доступными средствами пытался уменьшить власть сената.
Заседавшие в сенате реакционеры были напуганы принятием закона, смещением трибуна и конфискацией наследства Аттала. Еще больше их тревожила та популярность, которую Тиберий обрел среди бедноты. Сенат был вынужден принимать происходящее, но он всячески затягивал время. Реакционеры не собирались ограничиваться мирными и законными рамками.
Контрреволюция
Конфискация, в обход сената, богатств Пергама стала поворотным моментом. Тиберий заполучил сильных врагов. Многие его прежние союзники, напуганные серьезностью его намерений, отошли в сторону. Положение трибуна стало опасным. Многие желали его смерти. Раздоры больше не ограничивались аграрной реформой. Вопрос стоял иначе — кому править Римом? Между сенатом и народным собранием началось открытое столкновение.
Римский народ оказался расколот глубочайшей пропастью: на одной стороне — Тиберий Гракх и его сторонники, бедные крестьяне и пролетарии; на другой — сенаторы, патриции и посессоры. В республике существовали два центра власти. Положение походило на описанное В. И. Лениным двоевластие: один центр — сенат, подвластный крупным рабовладельцам; другой — народное собрание. Возникшее противоречие нельзя было разрешить на основе закона и обычаев, речей и голосований. Решить проблему могло лишь насилие.
Реакционеры почувствовали, что их момент настал. Срок трибуната Тиберия Гракха близился к концу. После окончания его трибунской неприкосновенности, он становился полностью беззащитен. Единственным способом избежать этого было новое переизбрание его трибуном. Но повторное избрание на трибунскую должность было еще одним незаконным шагом. Гракх решился на этот отчаянный поступок. Его шансы победить на выборах в 134 г. до н. э. были весьма значительны. Но самые верные его сторонники — крестьяне — были заняты сбором урожая и находились в сельских районах. К тому же сильные покровители и союзники покинули его. Но сенаторы не собирались рисковать.
Во все времена контрреволюционеры использовали одинаковую тактику. Реакция обвиняет своих врагов в желании установить «тиранию». Под этим демагогическим и лживым лозунгом они провоцируют насилие, одновременно пытаясь придать своим действиям вид «обороны»: смотрите, не мы проливаем кровь первыми! Мы лишь защищаем права граждан, существующий закон и порядок. Всячески изображая из себя жертву, которая вынуждена «защищаться», аристократия на самом деле подготавливала агрессию против народной партии.
Правящая элита Рима, решала, что единственная возможность победить массовое движение — убить Тиберия Гракха. Но так как Тиберий пока имел слишком сильные позиции, они не могли напасть на него немедленно. Вместо этого его противники затаились, выжидая подходящего момента. Реакционеры группировались вокруг Понтифика Максимуса, отвечающего за соблюдение религиозных обрядов, кузена Тиберия, Корнелия Сципиона Назика. Противники Гракха начали свой мятеж в сенате:
«Все пришли в смятение. Назика призвал консула защитить государство и свергнуть тирана. Когда же консул сдержанно возразил, что первым к насилию не прибегнет и никого из граждан казнить без суда не будет».67
Насилие распространилось и на народное собрание, где реакционеры путем подкупа и другими средствами пытались получить поддержку. Массы же использовали народное собрание как законное место для выражения недовольства. Между сторонниками и противниками Гракха в собрании начались физические столкновения.
Убийство Тиберия Гракха
Сторонники Гракха укрепились на Капитолии, где проходило народное собрание. Согласно Аппиану, Корнелий Сципион Назика привел вооруженных аристократов и сенаторов на место встречи Тиберия с избирателями. По иронии судьбы, сторонники Гракха (не крестьяне, а городские бедняки, менее заинтересованные в реформах) пропустили сенаторскую процессию, в знак уважения к их статусу. Богатеи отплатили за эту доброжелательность жестоким насилием. Разъяренные реакционеры набросились на собравшихся и разбили Тиберию Гракху голову. Вот как пишет об этом Плутарх:
«Каждый из шагавших следом сенаторов обернул тогу вокруг левой руки, а правою очищал себе путь, и так велико было уважение к этим людям, что никто не смел оказать сопротивления, но все разбегались, топча друг друга. Те, кто их сопровождал, несли захваченные из дому дубины и палки, а сами сенаторы подбирали обломки и ножки скамей, разбитых бежавшею толпой, и шли прямо на Тиберия, разя всех, кто стоял впереди него. Многие испустили дух под ударами, остальные бросились врассыпную. Тиберий тоже бежал, кто-то ухватил его за тогу, он сбросил ее с плеч и пустился дальше в одной тунике, но поскользнулся и рухнул на трупы тех, что пали раньше него. Он пытался привстать, и тут Публий Сатурей, один из его товарищей по должности, первым ударил его по голове ножкою скамьи. Это было известно всем, на второй же удар заявлял притязания Луций Руф, гордившийся и чванившийся своим «подвигом». Всего погибло больше трехсот человек, убитых дубинами и камнями, и не было ни одного, кто бы умер от меча».68
Впервые за четыреста лет правящую элиту Рима раскололи кровопролития и убийства. «Все прочие», — замечает Плутарх, — «хотя бы и нелегкие и отнюдь не по ничтожным причинам возникшие, удавалось прекратить благодаря взаимным уступкам и власть имущих, которые боялись народа, и самого народа, который питал уважение к сенату».69
Последовавший затем террор мало, чем отличался от подобных событий, имевших место в истории. Правящий класс отомстил побежденной стороне с предельной жестокостью и злобой. Сторонников Тиберия преследовали и убивали, словно диких зверей. Мстительная ненависть аристократии распространялась даже на трупы ее врагов. Плутарх комментирует:
«Несмотря на просьбы брата, враги не разрешили ему забрать тело и ночью предать погребению, но бросили Тиберия в реку вместе с другими мертвыми. Впрочем, это был еще не конец: иных из друзей убитого они изгнали без суда, иных хватали и казнили. Погиб и оратор Диофан. Гая Биллия посадили в мешок, бросили туда же ядовитых змей и так замучили».70
Смерть Тиберия Гракха сопровождалась белым террором. Сенат организовал расправы, послав на смерть множество своих противников. Горечь от пережитого поражения породила слух, будто Публий Корнелий Сципион Эмилиан был убит своей женой Семпронией — сестрой Тиберия Гракха — из-за отказа Сципиона осудить убийство ее брата.
Аристократическая реакция
Убийство Тиберия изменило все. Уличное насилие стало в Риме обыденностью. Все надежды на политический компромисс умерли со смертью Тиберия. Соглашение стало невозможно. Обе стороны перестали обращать внимание на законы или соблюдать «правила игры». Это была открытая классовая борьба. Аппиан пишет:
«Так убит был на Капитолии, состоя еще в звании трибуна, Гракх, сын Гракха, бывшего два раза консулом, и Корнелии, дочери Сципиона, лишившего карфагенян их военного превосходства. Гракха погубил составленный им превосходный план, потому что Гракх для осуществления его прибег к насильственным мерам. Гнусное дело, случившееся в первый раз в народном собрании, потом неоднократно повторялось от времени до времени и применялось к другим подобным Гракху лицам. А из-за убийства Гракха Рим поделился надвое: одна часть печалилась, другая радовалась. Одни сожалели о себе, сожалели о Гракхе, сожалели о том положении, в каком находилось государство, где не было больше законного правления, но где господствовали кулачное право и насилие. Зато другие полагали, что они достигли исполнения всех своих желаний».71
Хотя реакция и одержала победу в Риме, это убийство не подарило покоя олигархам. Трудности бедноты и безземельного крестьянства продолжали нарастать, подготавливая почву для успешной революционной агитации. Маркс однажды заметил, что революция иногда требует кнута контрреволюции. Убийство Тиберия разгневало массы. Сенаторов открыто оскорбляли на улицах города. Младший брат Тиберия Гай был подвергнут судебному преследованию, но, энергично защищаясь, смог избежать наказания. И напротив, убийца Тиберия, Корнелий Сципион Назика, был опозорен и сослан в одну из недавно завоеванных областей Азии, где и умер при весьма подозрительных обстоятельствах.
Аристократическая партия сосредоточила свои атаки на аграрной реформе, стремясь убрать последние преграды на пути к присвоению оставшейся земли. Но сенат был еще не в силах полностью отменить аграрные законы Гракха. Народная партия готовилась любой ценой отстаивать законы, которые служили интересам свободных крестьян. Столкнувшись с угрюмым недовольством народа, сенат пошел на попятную и созвал аграрную комиссию для проведения в жизнь некоторых из реформ Тиберия. Некоторое время это помогало. В 125 году до н. э. имущественный ценз для армейской службы преодолели на 75 000 больше граждан, чем в 131 г.
Разграбление Италии
Олигархия пришлось купить временный мир путем удушения провинций высокими налогами. Умиротворяя торговцев и городскую бедноту смесью уступок и репрессий, аристократы продолжали присваивать все новые земли. Они бесстыдно разграбили Италию, сокрушая маленьких крестьян и вытесняя их, порождая экономические и социальные неурядицы. Маленькие фермы в Италии, говорит Моммзен, «исчезли как капли дождя в море».
Многие «лишние» италики начали стекаться в Рим, агитируя за расширение прав неграждан. Это еще более разожгло гражданские страсти. В 126 г. до н. э. трибун Юний Пенн принял закон, по которому всех неграждан следовало выслать из Рима. Подлинной целью этой меры было изгнание италийских агитаторов. Выполнялся ли закон в отношении богатых иностранных торговцев — неизвестно. Очевидно, что многие из них могли обойти этот запрет, который своим острием был направлен против не-римской бедноты.
Недовольство италиков стало настолько опасным, что в 125 г. до н. э. консул Марк Фульвий Флакк предложил предоставить латинянам полное гражданство, а италикам — прежние латинские привилегии. Это предложение вызвало сопротивление с двух сторон. Сенаторы видели в массе италиков угрозу своей политической власти, опирающуюся на систему политического патронажа. Беднота рассматривали любое увеличение числа граждан как угрозу своим привилегиям римских граждан. Это предложение имело мало шансов на успех. Сенат поспешил отослать Флакка в Массалию (ныне Марсель) воевать с галльским племенем саллювиев.
Неспособный победить силой, сенат прибег к интригам и подкупу. Сенаторы предложили увеличить выдачи зерна и раздать землю безземельным римским гражданам (за счет италийских крестьян). Но эти меры лишь оттягивали время, под их прикрытием негласно готовилась традиционная силовая расправа. Вскоре классовая борьба вновь обострилась: начались уличные стычки и убийства. Правящий класс, совмещая репрессии и уступки, пытался удержать массы под свои контролем. Сенаторы разрешили распределять общественную землю и предложили народу выбрать нового представителя, способного продолжить дело Тиберия.
Борьба продолжалась, но ситуация оказалась патовой. Класс, состоявший не более чем из двух тысяч богатых семей, решал все. Но нация в целом выказывала очевидные признаки упадка. Выродившееся высшее сословие больше не могло удерживать власть. Однако и массы были не в состоянии свергнуть их.
Гай Семпроний Гракх
Народ хорошо выучился противостоять сенату. Тиберий превратил народную партию в жизнеспособное политическое движение. После его убийства римское законодательство стало пустым звуком. Да и как могут работать законы, если люди поняли, что правовые нормы — всего лишь формальное закрепление интересов правящего класса? Тиберий Гракх пытался напрямую обратиться к народу. Он потерпел поражение, но у него нашлись преемники.
Новым вождем популяров стал Гай Гракх, брат убитого Тиберия. Как и брат, он отстаивал программу, которая должна была подорвать власть богачей. Этот политический агитатор открыл эпоху столетней гражданской войны, которая поставила римскую республику на грань распада. Он пользовался огромной популярностью среди масс и заслуженной ненавистью власть имущих:
«…все, как один, известные и видные граждане выступали против него, а народ, поддерживавший Гая, собрался со всей Италии в таком количестве, что многие не нашли себе в городе пристанища, а Поле всех не вместило и крики голосующих неслись с крыш и глинобитных кровель домов».72
Несмотря на популярность Гая, аристократы ухитрились так организовать выборы, что он занял не ожидаемое первое место, а лишь четвертое. Но никакие махинации не могли предотвратить его взлета.
Аграрное законодательство Тиберия Гракха применялась в самой реакционной форме — за счет италийских крестьян. Это вызвало серьезное недовольство среди союзнических народов Италии. Как мы уже отмечали, видный сторонник Гракхов Марк Фульвий Флакк призывал дать италийцам римское гражданство, в компенсацию за потери, понесенные в ходе аграрной реформы, и Гай Гракх поддержал его.
Сенат попытался избавиться от Флакка, отослав его в Галлию, для защиты союзной Массалии, которая запросила римской помощи в борьбе с саллювиями. Этот маневр имел неожиданные последствия. Флакк разбил галлов и с триумфом вернулся домой. К тому времени у Гая окончился срок полномочий квестора Сардинии, и он возвратился в Рим, чтобы занять место брата. В 123 г. до н. э., спустя десять лет, после убийства Тиберия, тридцатилетний Гай Гракх был избран трибуном.
Поддерживала нового трибуна главным образом городская беднота, пролетариат, которые ждали от него раздачи земли. Гай намеревался расширить свою базу, создав широкую оппозицию, опирающуюся на городские массы, всадников и италиков. В попытке задобрить избирателей он утвердил закон, по которому всем гражданам Рима зерно продавалась за полцены.
Программа младшего Гракха была более решительна, чем программа его брата. Он требовал снабжать солдат одеждой за государственный счет, не вычитая ее стоимости из жалованья. Он запретил призывать лиц моложе 17 лет. Также он потребовал снизить цены на зерно. Гаю удалось ввести в сенат 300 человек из класса всадников. Он инициировал масштабную программу общественных работ по строительству дорог и гаваней, что было выгодно крупным римским капиталистам. Таким образом, ему удалось отколоть всадников73 от сената.
Опираясь на эту широкую коалицию, Гай смог оставаться на должности трибуна два года, за время которых он выдвинул много новых законов. Он подтвердил аграрные законы Тиберия и раздал небольшие земельные наделы в новых колониях, одна из которых была создана на месте разрушенного Карфагена. Гай предложил раздать беднякам общественные земли. В ответ его противники вновь прибегли к саботажу. Сенат разрешил новым арендаторам продавать полученную землю, которую стали скупать богачи. Подобными приемами сенат противился реформированию устаревших норм. Розданные бедноте земли, таким образом, переходили в руки богатых латифундистов. В то же время, распространение рабского труда делало эти законы неактуальными и беспощадно вытесняло свободный труд по всей Италии.
Аристократия могла управлять народным собранием — трибутной комицией,74 куда входило по одному представителю от каждой трибы. Горожане составляли четыре трибы. Сельские жители контролировали тридцать одну. Поэтому землевладельцы могли контролировать комиссию, опираясь на своих клиентов и вольноотпущенников, так как мелкие фермеры редко съезжались в Рим в большом количестве и никогда не оставались там надолго. По идее, эта система должна была защищать интересы мелкого крестьянства перед городскими массами. Теперь же она стала оружием в руках аристократов-рабовладельцев.
Перетягивая на свою сторону всадников, Гай предоставил им право откупа по сбору налогов в недавно завоеванной Азии. Всадникам также было дано право судить провинциальных правителей. Это была откровенная попытка подорвать власть сената, так как ограничивало его власть над провинциальными властями, многие из которых были римскими капиталистами из сословия всадников, обогащающихся за счет своих должностей.
Чтобы увеличить число своих сторонников, Гай предложил дать право голоса италикам. Он внес законопроект о даровании римского гражданства союзникам.75 Однако тут возмутились старые приверженцы Гракха. Реакционеры смогли умело использовать неприязнь к «чужакам», расколов массы и, таким образом, перетянуть на свою сторону городскую бедноту и заблокировать это предложение. Люмпен-пролетарская толпа не желала делить свои привилегии римских граждан с кем бы то ни было. «Эти люди были в данном случае не согласны просто по той причине, что в их глазах право римского гражданства было, так сказать, акцией, обладание которой доставляло им участие в различных, весьма осязательных, выгодах — прямых и косвенных. Поэтому понятно, что они никак не были склонны увеличивать количество акционеров».76
Борющиеся классы намертво столкнулись лбами. Моммзен говорит:
«Ясно было, что раз взялись за раздел государственных земель, справиться с этим можно было только такими энергичными мерами».77
В 121 г. до н. э. Гай Гракх, как и его брат, был повторно избран на должность трибуна. Когда он выдвинулся в третий раз, сенат вновь организовал заговор. Чтобы подорвать влияние Гая Гракха, сенаторы выставили своего кандидата — Марка Ливия Друза — с откровенно демагогической программой. В ход пошли самые злостные сплетни и откровенная клевета. Но главная слабость Гая была в том, что он лишился поддержки из-за своего провалившегося проекта по предоставлению италикам римского гражданства. В результате Гай проиграл выборы и не был избран на третий срок.
Возмущенные сторонники Гая Гракха, некоторые из которых были вооружены, во главе с Флакком организовали массовую демонстрацию протеста на Авентинском холме. Сенат только этого и ждал. В целях «восстановления порядка» против них бросили отряды ополчения, легионеров и лучников под командованием консула Луция Оптимия. Сенат уполномочил его выступить против любого «кто будет угрожать стабильности римского государства». Последовала жесточайшая резня, в ходе которой приверженцев Гракха потопили в крови. Сам Гракх, осознав безвыходность своего положения, приказал рабу заколоть себя. Его обезглавленный труп бросили в Тибр. 3 000 его сторонников угодили за решетку, где их вскоре задушили.
Почему Гракхи потерпели поражение?
Главная беда Народной партии (популяров) была в том, что римский пролетариат составляли не пролетарии в марксистском смысле, а деклассированные люмпены. Безработная римская толпа ненавидела богатых патрициев — но в конечном итоге, она сама была частью класса эксплуататоров и кормилась плодами труда рабов, в виде государственных раздач хлеба. Пролетариат Рима извлекал выгоду из эксплуатации и притеснения италийцев, и именно поэтому крайне враждебно встречал любые попытки расширения прав римского гражданства.
Они умели учинять бунты, иногда играли революционную роль, но в конечном итоге оказывались в лагере реакции, который умело использовал их предрассудки. Как и в случае с Тиберием, на планы Гая дать италикам гражданство наложил вето второй трибун. Но на сей раз, маневр Сената привел к более далеким последствиям. Многие плебеи выступили против Гая. Этот раскол в народном лагере ободрил реакционеров, позволив им перейти в наступление.
Однако конфликт по земельному вопросу еще не закончился. Особенно сильное недовольство периодически вспыхивало в римской армии, где солдаты требовали земли, после окончания срока службы. В первом веке до н. э. общественные земли в Италии и на окраинах империи несколько раз раздавались ветеранам. Диктатор Сулла провел широкую конфискацию и раздачу земель в 82 г. до н. э. То же самое позже делал и Цезарь. Но в целом же попытки аграрной реформы потерпели неудачу, да иначе не могло и быть.
Как мы видели, Гракхи намеревались распределить землю между свободными гражданами, возродить мелкое крестьянство и населить Италию вольными землепашцами, а не рабами. Они требовали выделения общественных земель бедноте. Однако их предложения не могли возыметь успеха, так как не устраняли основного противоречия. Мелкие крестьяне не могли конкурировать с крупными латифундиями, где трудились огромные массы рабов — тем более, что им приходилось часто бросать свои фермы ради армейской службы. Такие попытки повернуть время вспять были заранее обречены на неудачу. Они шли вразрез с экономической потребностью эпохи.
Сегодня, при капитализме, любые усилия поддержать малый бизнес и ограничить распространение больших корпораций с помощью антимонопольного законодательства оказываются полностью бесполезными. Так и в Древнем Риме: класс мелких земледельцев уже нельзя было возродить. Процесс концентрации земельных угодий в руках небольшого числа крупных рабовладельцев была неумолим.
Цезаризм
Республика умирала, так как ее основа была уничтожена. Этот процесс проявлялся в непрерывных политических кризисах, межпартийной борьбе, революциях и контрреволюциях. Как ни парадоксально, непосильные долги душили не только крестьян. Многие сенаторы за показным блеском и роскошью скрывали свое финансовое банкротство. Рост денежной экономики разлагал старые социальные отношения и политический аппарат.
Не было ни одной жизнеспособной силы, которая могла бы занять место почившей системы. Борющиеся классы оказались в ступоре. Римский плебс хорошо умел учинять бунты и мятежи, не раз приводившие к власти удачливых демагогов. Но как мы уже не раз отмечали, пролетариат Рима — в отличие от современного — был не производительным, а паразитирующим классом. Он жил за счет труда рабов и порабощенных народов, так же как и ненавистные ему капиталисты и аристократия. Он был не в состоянии обеспечить жизнеспособную альтернативу существующей системе. С другой стороны, имущие классы, расколотые на капиталистов и аристократов, также не могли обеспечить необходимую стабильность. Итогом стала длительная и бесславная агония республики, неуклонно катившейся к цезаризму и Империи.
В этот период классовая борьба в Риме приняла особенно лихорадочный и конвульсивный характер. Одна партия сменяла другую, не предлагая никакого реального выхода. Вольноотпущенникам было дано право голоса, чтобы их патроны могли контролировать улицу. Политики появлялись на улицах и на Форуме во главе частных армий из сотен или даже тысяч вольноотпущенников, тем самым, шантажируя сенат за принятие нужных им законов. Наконец, политическая борьба дошла до момента, когда только вооруженная сила могла обеспечить порядок и спокойствие. Теперь в игру должна была вступить армия.
Пролетарии и рабы
Кризис римского общества неизбежно затронул и рабов. Трудящееся население организовало ряд бунтов, которые достигли своей наивысшей точки в великом восстании рабов под руководством Спартака. Рабы аттических серебряных рудников в Греции, взбунтовавшись, захватили мыс Сунион (Sunion) близ Афин и долгое время грабили окрестности, прежде чем были разгромлены. На Сицилии, как мы уже видели, одно восстание сменялось другим, и мятежники даже наносили поражения римлянам.
Во время первого сицилийского восстания были случаи, когда свободные пролетарии присоединялись к восставшим рабам. Вероятно, именно поэтому Спартак со своей армией попытался перебраться на остров, чтобы разжечь там новый мятеж рабов и попробовать основать независимое государство. Его восстание потерпело неудачу, а после его гибели рабовладельцы отомстили пролетариям, продав многих из них в рабство.
Так как условия жизни свободных пролетариев мало отличались от жизни рабов, логично было бы ждать, что они объединятся в одном общем восстании против олигархии. Возникает закономерный вопрос: почему этого не произошло? Крестьянам в сельской местности жилось не намного лучше, чем городской бедноте Рима. Однако сведений о крестьянских бунтах до нас не дошло, и лишь изредка римские бедняки участвовали в восстаниях рабов.
Причина этого очевидного противоречия в том, что ни городские плебеи, ни свободные крестьяне не были производительной силой общества. Нищие и бесправные, в конечном счете, они имели больше общего с рабовладельцами, чем с рабами, которые и были настоящим эксплуатируемым классом и производителем общественного богатства. Именно их труд обеспечивал пропитание безработных граждан Рима, их пот, кровь и слезы, были такой же платой за «хлеб и зрелища» для масс, как и за роскошь рабовладельцев.
Можно провести историческую аналогию между свободными римскими крестьянами (точнее, их остатками, сохранившимися к концу римской республики) и «бедными белыми» южных штатов Америки времен гражданской войны. У этого социального слоя не было абсолютно ничего общего с богатыми плантаторами-рабовладельцами, которые презрительно окрестили их «белым мусором». Хотя они и жили в нищете, сравнимой с нищетой их соседей-негров, — они, однако, всегда объединялись с белыми рабовладельцами против черных американцев и воевали в армиях Юга в ходе гражданской войны. Белые бедняки, несмотря на унизительные условия своей жизни, всегда чувствовали себя выше афроамериканцев. Такова реальность: многие низшие слои общества находят утешение в факте, что существуют люди, которые живут еще хуже них. Подобная психология была присуща и беднейшим слоям римского общества, как в городе, так и в деревне. В каждый решающий момент они объединялись с сенатом против рабов.
Маркс отмечал в своей статье «Гражданская война в Северной Америке»:
«Наконец, число собственно рабовладельцев на Юге Союза не превышает 300 000 — ограниченная олигархия, которой противостоят многие миллионы так называемых «белых бедняков» (poor whites), масса которых постоянно возрастала вследствие концентрации землевладения и положение которых можно сравнить лишь с положением римских плебеев во времена крайнего упадка Рима».78
Военная реформа Мария
Поражение восстания рабов и движения Гракхов означало, что революционные перемены в обществе больше невозможны. Теперь политическая борьба в Риме представляла собой борьбу между конкурирующими флангами имущих классов, которые в своей борьбе искали поддержки у городской бедноты. Но как только возникала опасность, что городская беднота выходит из-под контроля, все фракции имущего класса смыкали свои ряды, чтобы восстановить «порядок».
Мы помним из предыдущих глав, что яростная вражда между сенатом и римскими капиталистами (всадниками79) началась в 123 г. до н. э., когда Гай Гракх провел Lex Judiciaria, согласно которому судьи80 избирались из числа всадников, а не только сенаторов. С этого времени пропасть между сенатом и сословием всадников расширялась год от года. Прежде судьи избирались из рядов аристократии, которая могла легко контролировать суды и использовала эту возможность для упрочения своей власти.
Это было особенно важно при рассмотрении дел о взяточничестве и самоуправстве региональных наместников. Жадные римские сборщики налогов, которые опустошали провинции, набирались, главным образом, из всадников. Обычно наместники за взятки давали им полный карт-бланш. Когда же на их пути случайно вставал честный наместник, его могли отдать под суд, оштрафовать или отправить в изгнание. И потому вопрос, кто будет контролировать судебную власть, был крайне важен для капиталистов.
В ситуации, когда противоборствующие классы в своей борьбе заходят в тупик, и ни одна из сторон не может одержать решающей победы, на первый план выходит государственный аппарат, в форме армии, который начинает подминать под себя общество и приобретать определенную степень независимости. В римской республике этому способствовал и тот факт, что армия все более и более принимала наемный характер, вследствие исчезновения свободного крестьянства, составлявшего сердце старой гражданской милиции.
После разгрома движения Гракхов, классовая борьба превратилась в обычную грызню партий, где честолюбивые авантюристы и военачальники, представлявшие ту или иную клику правящего класса, изо всех сил стремились подмять государство под себя. Конкурирующие полководцы устроили подлинную свалку из-за власти. Постоянные войны с африканцами, германцами, кимврами, тевтонами и прочими племенами лишь приумножали влияние этих военачальников, поддерживавших то одну, то другую партию.
Первым полководцем с политическими амбициями стал Гай Марий, сын бедного поденщика, обогатившийся на удачных спекуляциях и породнившийся с патрицианским родом Юлиев. Его военные победы над африканцами,кимврами и тевтонами прославили его. «Марий стоял не только вне аристократического общества, он стоял также вне партий»,81 — говорит о нем Моммзен. Этот авантюрист имел сторонников в каждом классе, интриговал и маневрировал между ними. Однако главным его подспорьем была армия, которую он реорганизовал для использования в собственных, далеко идущих интересах.
Ранее служить в армии могли только собственники. Различные армейские подразделения (кавалерия и т. д.) также строились на основе имущественного ценза. Перемены в классовом составе римского общества лишили эти правила смысла. Имущие классы больше не рвались в армию, стараясь всеми силами избежать воинской обязанности. С другой стороны, бедные граждане, напротив, охотно шли на службу, гарантировавшую им жалованье и грабежи. Римские крестьяне знали только один способ избежать нищеты — вступить в войско. В период поздней республики они так и поступали, добровольно или по принуждению. И, однажды встав в строй, солдат-крестьянин (как позже при Наполеоне) был безоговорочно предан своему командиру.
Реформы Мария стали большим шагом вперед по преобразованию гражданской милиции в профессиональную постоянную армию, отделенную от общества, со своими интересами и своим корпоративным духом, где солдаты в первую очередь служили своему военачальнику, а не сенату или римским гражданам. Именно от полководца зависела оплата, слава и возможность грабежа. Также отсюда начался упадок звания римского гражданина, так как теперь в армии могли служить латиняне и другие неримские народы. Во время войн Марий даже начал раздавать солдатам римское гражданство, хотя по закону не имел на то никакого права.
С этого времени армия стала открытой для неимущих классов, так как больше не зависела от количества имущества. Всем раздали одинаковое оружие, переодели в единую униформу и все новобранцы обучались по единой методике. Дисциплина и боевые качества римского воинства резко выросли. В армии зародился внутренний патриотизм — своего рода «честь мундира». Римская армия стала огромной дисциплинированной силой. Но у этих реформ был и другой, более зловещий аспект.
«Конституция республики строилась, главным образом, на принципе, что каждый гражданин — в то же время солдат, и каждый солдат — прежде всего гражданин. Поэтому с возникновением особого солдатского сословия этой конституции должен был наступить конец. А к возникновению такого солдатского сословия должен был вести уже новый устав строевой службы с его рутиной, заимствованной у мастеров фехтовального искусства. Военная служба постепенно стала военной профессией. Еще гораздо быстрее повлияло привлечение к военной службе пролетариев, хотя и в небольшом размере. При этом имело особое значение следующее. По старым правилам полководец имел право, совместимое лишь с вполне солидными республиканскими учреждениями, награждать солдат по своему усмотрению. Солдат, проявивший доблесть и сражавшийся с успехом, имел как бы право требовать от полководца часть добычи, а от государства — участок на завоеванной территории».82
Теперь римский солдат стал профессиональным убийцей, таким же, как гладиатор, частью машины убийств, скрепленной жестокой дисциплиной и общими интересами завоеваний и грабежей: «Лагерь был его единственной родиной, война — единственной наукой, полководец — единственным источником надежд».83
Римский легионер полностью оторвался от гражданского общества, и хотя он все еще нес на своих штандартах гордые буквы SPQR («Сенат и народ Рима»), на практике же честолюбивые римские военачальники использовали армию против сената и римского народа.
Тем самым был заложен первый камень в здание цезаризма.
«Теперь существовало постоянное войско, военное сословие, гвардия. В армии, как и в гражданских учреждениях, были уже заложены все основы будущей монархии. Недоставало только монарха».84
Само существование профессиональной армии было угрозой демократии. Постоянная армия, оторванная от общества, всегда является потенциальным инструментом для государственного переворота. Это наглядно демонстрирует история римской республики. Именно поэтому, много веков спустя, Парижская Коммуна выдвинула требование о замене регулярной армии гражданской милицией. Это требование было одним из основных пунктов рабочей демократии в ленинской работе «Государство и революция»85 и было включено в программу РКП(б) в 1919 г. История Римской республики — предупреждение о необходимости такой реформы.
«Цезаризм»
Классовая борьба раздирала республику. Целый ряд демагогов в любой момент был готов призвать уличную толпу к бунту и беспорядкам. На арену вышли такие любимцы толпы как Гай Сервилий Главция, известный как Роман Гипербус, и его более способный коллега Луций Аппулей Сатурнин, которого даже его враги считали пламенным оратором. С партией популяров заигрывал и Марий, а ее вожди в свою очередь были не прочь заключить сделку с прославленным полководцем и его легионами.
Здесь перед нами один из элементов бонапартизма, который в древности именовался «цезаризмом»: тенденция балансировать между классами, с опорой на люмпен-пролетариат ради удара по правящему классу, и использование военщины для прихода к власти. Лидеры популяров пошли на соглашение с Марием, чтобы поделить власть между собой. Говорят, что Марий не гнушался увещеванием и даже прямым подкупом избирателей. Само собой, он пользовался и физическим вмешательством своих ветеранов. Сочетая подкуп и террор, Марий успешно занял место консула. Главция получил пост претора, а Сатурнин — народного трибуна.
Марий заручился поддержкой римлян, пообещав им землю. Исполнить обещанное можно было только с помощью новых завоеваний. Частично вопрос решался за счет карфагенских территорий. Небольшим подспорьем стала и галльская земля в северной Италии. Но вскоре вся ничейная земля была роздана. Этот факт, наряду с постоянной нуждой в дешевых рабах, и стал одним из важнейших толчков к будущим римским завоеваниям.
В самом Риме продолжалась борьба между сенатом и популярами, требовавшими новых субсидий для бедноты, что неизбежно разорило бы казну. Аристократия сопротивлялась, но сенат находился под сильным давлением масс, которые регулярно бунтовали на улицах. Сетерний потребовал, чтобы Сенат выполнил его требование «или за громом последует град!». Но аристократия втайне подготавливала ответный удар. Сынки богатых семейств получили оружие и стали нападать на сторонников народной партии.
Как и раньше, популяры превосходили врага числом, но уступали ему в оружии и умении воевать. Поэтому они не смогли дать отпор погромщикам. В отчаянии они открыли ворота темниц и даже призвали рабов драться за свободу. Но было уже слишком поздно. Как не раз случалось в истории, небольшие, мобильные, хорошо организованные группы под умелым руководством, могут вдребезги разбить слабовооруженные и дезорганизованные массы. В самый решающий момент оказалось, что армия не собирается идти им на помощь.
Марий, который заигрывал с популярами, чтобы захватить власть, теперь бросил их, переметнувшись на сторону аристократии. На городском рынке развернулось настоящее сражение. Сторонники народной партии были разбиты и отступили к Капитолию, где впервые в истории была пролита кровь. В конце концов, им пришлось сдаться, после того как была перекрыта подача воды. Вероятно, Марий предпочел бы сохранить жизни своих недавних союзников, чтобы использовать их в будущих интригах, но он был уже не в силах остановить бойню. Не слушая приказов, золотая молодежь Рима взобралась на крышу суда, во дворе которого содержались пленные популяры, и насмерть забросала беспомощных жертв тяжелыми черепицами.
Реакция одержала полную победу. Популяры были сокрушены, их вожди погибли. Мстя массам за былое унижение, правящий класс учинил шквал террора: изгнания, аресты, судилища и бессудные убийства обескровили народную партию. Если ранее всадники поддерживали Гракхов, то теперь, напуганные решительным настроем масс, они бросились под знамя и объединились с другими фракциями правящего класса против бедноты.
Государство встает над обществом
Тем не менее, конфликт ничего не решил. Римское общество было расколото на два антагонистических лагеря: бедных и богатых. Римские капиталисты, рабовладельцы или всадники, сформировали единый блок с аристократией против бедных римлян, пролетариев. Особенность ситуации была в том, что ни одна из сторон не могла одержать окончательной победы над своим противником. В такой ситуации государство — вооруженные группы людей — берет верх над обществом, становясь самостоятельной силой. Вот что говорит о роли государства Энгельс:
«Итак, государство никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу. Государство не есть также «действительность нравственной идеи», «образ и действительность разума», как утверждает Гегель. Государство есть продукт общества на известной ступени развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство».86
На примере римской истории мы видим, что цезаризм — это власть меча. Последовала долгая ночь реакции, когда права пролетариата были отменены или урезаны, законы изменены, а прогрессивные реформы обратились вспять. Однако классовая борьба не завершилась, а только ушла в подполье. Некоторые популяры обратились к индивидуальному террору. Им удалось отравить ненавистного Квинта Метелла. Другие бежали за границу и осели у иноземных врагов Рима, таких как Митридат, который готовился к войне с Римом.
Реакция была несокрушима, но в ее собственном лагере назревал конфликт. Аристократическая партия сперва использовала всадников, чтобы раздавить пролетариат, но теперь готова была порвать с прежними союзниками. Самоуверенность аристократов росла. Освободившись от страха перед массами, аристократия жаждала править без оглядки на презираемых ею римских капиталистов.
Классовое размежевание не всегда отвечало партийным границам. В сенате заседали и сторонники капиталистов. Интересы всадников защищали такие сенаторы, как Луций Марк Филипп. Конфликт между аристократической и капиталистической партиями сводился к тому, кто будет грабить провинции. Часть сенаторской партии была готова поделиться награбленным со всадниками. Другие, более алчные ее представители, ослепленные ненавистью к выскочкам-нуворишам, противились этому. Вождями последних являлись Друз и Скавр.
Ссорясь между собой, правящий класс всегда с опаской поглядывал на плебейские массы, которые он предпочитал сдерживать раздачей бесплатного зерна (награбленного в неудачливых провинциях) и обещаниями земли (конфискованной там же). Постепенно провинции нищали под игом капитала. Класс мелких крестьян практически исчез в Умбрии и Этрурии, хотя он еще влачил жалкое существование в таких местах как долина Абруцци. Рим полностью обескровил и поработил Италию.
Восстание италиков
Ненасытная столица взваливала на провинции тяжкое бремя, что в итоге привело к антиримскому восстанию. Народная смута в самом Риме ненадолго обнадежила италиков, однако их ожидания не оправдались. Поначалу провинциалы поддерживали народную партию, затем — оптиматов, но все впустую. Независимо от того, какая партия правила в Риме, провинции всегда оставались в проигрыше. Нигде паразитическая природа римского общества не проявлялась так сильно, как в этом систематическом разграблении производительных областей непроизводительным центром.
По идее города Италии были независимыми союзниками Рима, но на деле Рим господствовал над ними, постоянно требуя денег и рекрутов. Во втором веке до н. э. италики составляли половину, а то и две трети римской армии. Рим также навязывал союзникам внешнюю политику и заправлял их междоусобными отношениями. В качестве компенсации союзники получали часть добычи и земель, захваченных в ходе завоевательных походов. Но тяготы римского владычества росли год от года.
Как мы уже говорили, римские власти раздавали землю за счет италиков. Это вело к огромному росту социального неравенства. Аппиан пишет, что таким образом «Италийское племя… мало-помалу очутилось в бедственном положении, уменьшилось количественно и теперь не имеет никакой надежды поправить свое положение».87
На протяжении почти двух веков они делили с римлянами все победы и поражения; теперь пришло время расплаты.
В 91 г. трибун Марк Ливий Друз младший смело потребовал реформ. Как и Гракхи, он был благороден, богат, популярен, и надеялся уладить вопрос мирно и по справедливости. Но его попытка судебной реформы отпугнула всадников, его аграрные и хлебные законы вызвали враждебность крупных землевладельцев, а его предложение дать римское гражданство италийцам разъярило римскую улицу.
Как и в случае с Гракхами, его проекты были приняты, но сенат объявил их, не имеющими законной силы. Самого трибуна объявили предателем, и в том же году его зарезал наемный убийца. Смерть Друза крайне разгневала италиков. Восемь народов объединились в оборонительный союз. Они создали федеративную республику, которую назвали Италией, а столицей ее провозгласили город Корфиний. Все италийцы считались гражданами Корфиния, здесь же находился сенат и народное собрание.
Этот мятеж вошел в историю под именем Союзнической войны. Первым взбунтовалось племя самнитов, к которому присоединились племена луканов а также марсы, пелигны и другие. Вскоре вся центральная и южная Италия была охвачена восстанием. Только этруски и умбры сохранили верность Риму: в этих краях правила родовая и финансовая аристократия, а класс независимых мелких крестьян практически исчез.
Первоначально повстанцам сопутствовал успех. Италики захватили Калабрию, одержали несколько побед над римлянами и попытались заручиться поддержкой североиталийских народов, среди которых началось брожение. В ответ на это римские правители предприняли решительные действия. Консулы Луций Юлий Цезарь и Публий Рутилий Луп начали наступление в Калабрии. Каждый имел по пять легатов, среди которых были Марий и Сулла.
Союзническая война стала последней вспышкой энергии мелких земледельцев, которые некогда были основой Римской республики. Восстание отчасти носило национальный характер — италики были отдельными племенами (или даже народами) и говорили на языках, отличных от латыни. Кроме того, в нем был и элемент классовой войны — особенно по долговому вопросу. Свободные италийские крестьяне, все более разорявшиеся в результате расширения рабства и появления латифундий, по горло увязли в долгах. Они воевали еще и за то, чтобы скинуть неоплатное долговое бремя.
Боевые действия затянулись на пять лет, но, в конце концов, италики были разбиты. Их восстание побудило объединиться все классы римского общества. Радикальность требований по списанию долгов побудила ростовщиков встать на сторону аристократической партии. Капиталисты и аристократы позабыли старые обиды во имя победы над общим врагом. Городская толпа, не желая разделять свои привилегии с италиками, восторженно поддержала войну. В такой обстановке поражение мятежников было только вопросом времени.
Как обычно, римский правящий класс добивался своих целей, мешая жестокость с обманом. Пришлось сделать некоторые уступки. К концу 90 г., консул Цезарь провел «закон Юлия», даровавший римское гражданство тем из италиков, кто не участвовал в восстании. На следующий год был принят так называемый Lex Plautia Papiria, согласно которому любой мог сложить оружие и в течение 60 дней заявить претору о желании принять римское гражданство.
Наконец, закон Кальпурния разрешал римским судьям в провинциях предоставлять право гражданства всем желающим. Все эти законы сыграли свою роль. Они внесли раскол и дезорганизацию в ряды повстанцев. Самниты и луканы сопротивлялись до последнего, но были разбиты Марием.
Окончание Союзнической войны не принесло желанного покоя в Рим. Недовольные уступками новые италийские граждане были озлоблены и обижены. Личные амбиции сенаторов раскололи сенат. Каждому из классов жилось все хуже. Военные расходы истощили казну, а многие капиталисты обеднели. Вдобавок к этому, началась война с понтийским царем Митридатом. Два честолюбивых полководца, Марий и Сулла, соперничали друг с другом за контроль над армией. Надвигалась новая бурная глава римской истории.
Марий и Сулла
Союзническая война склонила чашу весов глубоко вправо. Сенат, чьи ряды сильно поредели за время войн и бунтов, пополнился 300 новыми сенаторами — разумеется, до мозга костей преданными правящей аристократической клике. Система голосования изменилась в пользу имущих классов: сенаторы с состоянием более 100 000 сестерций обладали почти половиной голосов. На практике это означало, что низшие классы были отстранены от политики.
Победоносные реакционеры поспешили отменить прогрессивное законодательство. Законы народного трибуна Публия Сульпиция Руфа отвергли, а самого автора предали казни. Его отрубленную голову преподнесли в подарок сенату и выставили на трибуне. Участь должников не облегчилась ничем, кроме введения максимальной процентной ставки. Трибунам было запрещено выступать перед народом без разрешения сената.
Италийские войны также привели к возвышению полководцев Мария и Суллы. Теперь римская армия стала армией наемников. Солдаты подчинялись только своим военачальникам и были безразличны к политике и интересам республики. Римские традиции запрещали вводить в город войска. Однако Сулла, наплевав на это, пришел в Рим со своими легионами. Солдаты убили двух враждебных ему трибунов. Вскоре Сулла, представлявший аристократическую партию, стал полноправным хозяином Рима. Это был переломный момент. Впервые армия решала исход политической борьбы. Моммзен отмечает:
«Первое вмешательство армии в гражданские раздоры выявило с полнейшей очевидностью, что политическая борьба дошла до той стадии, на которой она может быть разрешена только прямой силой и что сила дубины — ничто перед силой меча. Консервативная партия первая взялась за меч, и по отношению к ней исполнились в свое время пророческие слова евангелия об обнажившем меч».88
Митридат
Социально-политическую смуту усугубил крах экономики. Рим погрузился в глубокий торговый и финансовый кризис. Мятеж италиков и восточная война с Митридатом истощили казну республики и разрушили торговлю. Господство римлян было столь ненавистно подвластным народам, что как только войска Митридата ступили на землю Греции, большинство греческих полисов — ахейцы, лаконийцы, беотийцы — присоединились к нему.
Как мы уже видели, экономическая система Рима зависела от притока дешевых рабов, захваченных в войнах, когда жители целых городов обращались в неволю для работы на шахтах Испании и латифундиях Италии. Когда римляне столкнулись с таким сильным противником как Митридат, поток рабов иссяк, а разрушение торговли немедленно вызвало кризис. Это был самый серьезный финансовый кризис за всю римскую историю.
Римских капиталистов не устраивала власть олигархии, которая не смогла предотвратить эти истребительные войны и дальнейший экономический кризис. Перед угрозой восстания бедняцких масс, они, конечно, поддержали аристократов, но теперь снова стали в оппозицию. Во время выборов между противниками начались столкновения: на Форуме снова засверкали мечи, и пролилась кровь. Говорят, что в одной из таких стычек погибло до 10 000 человек.89
Митридат понимал, что легче всего сломить Рим, разрушив его торговлю. Его флот контролировал восточное Средиземноморье, а войска занимали большую часть Греции и Малой Азии. Центр римской торговли в восточном Средиземноморье, Делос, был захвачен, а 20 000 его защитников вырезаны. Однако наряду с военными методами Митридат умело использовал и революционные, такие как отмена долгов и даже освобождение рабов. Это делало его крайне опасным врагом.
После жестокой борьбы римским войскам удалось разгромить Митридата. Но стяжательский дух римлян проявился даже здесь. Война перестала быть патриотической обязанностью свободных граждан, а стала простым коммерческим предприятием, дающим возможность пограбить и нажиться. Войска, стоявшие в северной Греции под командой Флакка, взбунтовались против своего полководца, обвинив его в присвоении солдатской добычи. Обвинение, скорее всего, было обоснованным, так как легионеры свергли Флакка и расправились с ним. Само собой, после римской победы освобожденных рабов вновь вернули хозяевам, а списанные Митридатом долги восстановили.
Террор Мария
Борьба между партиями в самом Риме заходила все дальше. Одним из новых вождей популяров был Луций Корнелий Цинна, отличившийся в Союзнической войне. В ходе противоборства с олигархами он даже воззвал к рабам, суля им свободу в обмен на поддержку. Но рабы не спешили откликаться. Помня прошлое, они не склонны были доверять приманкам богачей. В конце концов, Сенат лишил Цинну консульского звания. Его соратники были объявлены вне закона, и им пришлось бежать из Рима. Все эти меры не успокоили ситуацию, но только еще жарче разожгли страсти.
В ту пору среди солдат царили бунтарские и вольнолюбивые настроения — кроме случаев, когда популярные военачальники злоупотребляли своим авторитетом. Поэтому, когда Цинна обратился к солдатам, размещенным в Италии, с жалобой на свое незаконное отрешение от должности, те поддержали его. Армия, расквартированная в Кампании, признала его консулом и пошла маршем на столицу. Его беглые сторонники стали возвращаться назад. Что самое важное, во время своего похода на Рим он освобождал рабов, которые получали оружие и вливались в армию. Он приказывал своим солдатам отпирать эргастулумы, где содержались провинившиеся и опасные рабы.
Воззвание Цинны обещало свободу всем рабам, готовым встать в строй. И действительно, многие рабы покинули господ, чтобы присоединиться к мятежникам. Горячие головы из противного лагеря даже предлагали сенату дать волю тем рабам, что займут их сторону, но на такое сенаторы не решились. К мятежникам примыкали все новые и новые сторонники, и вскоре их армия выросла до 6 000 человек и 40 судов. Цинну поддержал и Марий, возглавивший повстанцев в Этрурии. Рим оказался в кольце.
Сенатская армия таяла на глазах. Поражение было неизбежно. В конце концов, сенаторы сложили оружие, умоляя победителей не начинать расправ. Но мольбы были бессмысленны, учитывая чрезвычайное озлобление и ненависть народных масс. Едва мятежники вошли в город, как началась кровавая резня, которой заправлял Марий.
Прославленный семидесятилетний полководец жаждал мести всем, кто был виновен в его крушении. Как выразился Моммзен, за любую остроту Марий отплатил ударом кинжала. Победители не стали напрасно тратить время на преследования отдельных сенаторов. Они нашли более простой способ расправиться со своими врагами: убить всех представителей правящей партии разом и конфисковать их собственность. Городские ворота были закрыты, чтобы никто не смог бежать.
Пять дней и ночей подряд длилось кровопролитие. Еще долго после этого по всей Италии продолжались убийства. Было убито множество богатейших граждан Рима. Эти события стали известны под именем «террора Мария». В теории республиканские законы продолжали действовать. Но что толку в законах, когда все решает вооруженная сила? Вскоре после победы Марий скончался. Глава народной партии, Цинна четыре года занимал кресло консула, своевольно расставляя приближенных на любые посты, без совета с народом, хотя и продолжал опираться на него. По существу, он стал диктатором Рима.
Естественно, Цинна отменил реакционные законы Суллы. Он дал право голоса вольноотпущенникам. Он облегчил положение должников — по новому закону списывались три четверти всякого долга. Заискивая перед пролетариатом, он отменил ограничение на свободную раздачу зерна. Таким образом, римляне продали свою политическую свободу за материальную подачку. Родилась политика «хлеба и зрелищ».
Подлинной основой режима Цинны была армия. Партия капиталистов, которая изначально его поддерживала, отошла в сторону после долговой реформы, так как эта мера ударила их по самому болезненному месту — по кошельку. Разгром аристократической партии оттянул развязку года на три, пока новая волна агитации не опрокинула статус-кво. Олигархи, ухитрившиеся пережить террор Мария, бежали к Митридату. Сулла, лидер реакционеров, создал нечто вроде правительства в изгнании.
Весной 83 г. до н. э. легионы Суллы высадились в Брундизии. Продвигаясь на север, он смог перетянуть на свою сторону полководцев народной партии. Его вояки братались с солдатами марианцев и вместе пьянствовали на деньги, щедро раздаваемые Суллой. Война шла не за идеи, а за барыш. Полководец, который мог пообещать больше, получал поддержку армии. Сулла обещал больше. Войска Рима таяли как весенний снег. Подкупленные золотом Суллы, они массово переходили на его сторону.
Обессиленная марианская армия бежала, правда, успев перед этим истребить всех выживших узников. Сулла вошел в Рим, объявил себя диктатором и тут же развязал белый террор. Воцарилась железная тирания. Латинское племя самнитов, которое при власти популяров фактически обрело независимость, подверглось страшному истреблению, а города его были разрушены. Сулла заявил, что самнитов следует напрочь стереть с лица земли.
Диктатура Суллы
Правительство Суллы, казалось, должно было представлять римскую аристократию, но фактически в него входили отступники-популяры и колеблющиеся элементы — аналог тех, кого во время Французской революции называли «болотом». Он понимал, что социальная основа аристократии слишком слаба, чтобы гарантировать стабильность его режиму. Поэтому он, как и свергнутый режим, опирался на армию.
Среди перебежчиков из народной партии были Луций Флакк, Луций Филипп, Квинт Офелла и, наконец, Гней Помпей, позднее вошедший в историю под именем Помпея Великого. Как и свой отец, Страбон, по молодости Помпей не был сторонником олигархии, считал себя популяром и даже служил в войсках Цинны. Но в эпоху циничных авантюристов принципы и идеалы менялись вслед за политическим ветром. Люди, подобные Помпею, были правилом, а не исключением.
Что диктатура Суллы опиралась на армию, видно даже из названия его поста: он именовал себя не консулом, а проконсулом — должность военного времени. Он смиренно предложил сенату избрать единоличного властителя, которым, по его скромному мнению, должен был стать именно он. Поскольку за спиной Суллы стояли легионы, сенаторы не нашли в себе сил ему отказать. Так впервые государство — в форме армии — воцарилось над обществом и стало господствовать без каких-либо ограничений.
Первоначально «диктатором» называли должностное лицо, которое Сенат наделял чрезвычайными полномочиями. Со времен Ганнибаловых войн этот институт был позабыт. Но Сулла воскресил его, присвоив высшую государственную власть. В былые годы диктатура исключительно временной мерой — на срок не более шести месяцев. Теперь все переменилось. Всевластие Суллы не имело границ: это была власть меча, грубая и неприкрытая.
Чтобы защитить олигархов от пролетариата, Сулла подмял под себя олигархию. Хотя Сулла правил от имени Сената, и на деле выражал интересы сенаторского класса (олигархии), он отобрал у него политическую власть, сконцентрировав ее в своих руках. Таким образом, правящий класс потерял контроль над своим собственным государством. Моммзен справедливо подчеркивает: «Защитник олигархического строя должен был предстать в виде тирана, чтобы предотвратить угрозу еще большей тирании. В этой последней победе олигархии был немалый привкус поражения».90
Лишь после этого Сулла смог развернуться в полную мощь, учинив кампанию проскрипций, арестов и убийств своих противников. Насилию не было конца. Погибло не меньше 4 700 человек, главным образом, сторонников партии Мария. По приказу Суллы их отрубленные головы сваливались в бассейн Сервилия около Форума на общее обозрение. Причем, под нож попали не только участники недавних марианских расправ. В числе жертв оказались и римские капиталисты, которые выносили приговоры сенаторам или наживались за счет конфискованного имущества. В проскрипционные списки было внесено 1 600 всадников.
Кровопролития продолжались много месяцев и захватили всю Италию. По стране рыскали доносчики и шпионы. Людей оговаривали и казнили из личной неприязни, мести или корысти. Иных убивали еще до внесения в списки. Естественно Сулла, его родные и друзья не забывали нагреть руки на конфискованной собственности жертв. Рассказывают, что один из его вольноотпущенников смог купить имущество стоимостью в 6 миллионов сестерциев всего за две тысячи. Другой его друг смог сколотить себе десятимиллионной состояние, за счет конфискаций.
Террор Суллы был, не сравним ни с чем, что было раньше. Зверства Мария диктовались простой жаждой мести. Он были, в общем-то, случайны, в отличие от систематической кампании Суллы, с ее холодной расчетливостью: всего Сулла конфисковал собственности на 350 млн. сестерциев. Многие богатые римляне были полностью разорены. Моммзен пишет:
«Безмолвный ужас лег на страну, свободное слово замолкло на форуме столицы и провинциальных городов. Террор олигархии носил другой характер, нежели террор революции. Марий утолял в крови своих врагов свою личную жажду мести, Сулла же, можно сказать, абстрактно считал террор необходимым для введения нового деспотизма, и хладнокровно совершал и допускал убийства. Но террор казался еще ужаснее потому, что проводился консерваторами и, так сказать, бесстрастно. Гибель государства казалась тем неизбежнее, что оба лагеря не уступали друг другу в безумии и злодеяниях».91
Государство как механизм подавления
Как мы знаем, по большому счету, государство есть группа вооруженных людей, стоящих на страже частной собственности. В «золотые времена» республики армии был запрещен доступ в Рим, и в столице не было никакого воинского гарнизона. Революционные события, однако, подтолкнули правящую клику к чрезвычайным мерам. Поэтому Сулла предпринял ряд шагов по укреплению репрессивной функции государства. Он впервые создал настоящую профессиональную армию, набиравшуюся из освобожденных рабов. Численность ее составляла около десяти тысяч солдат.
В наши дни вокруг государства сложилась масса многовековых мифов. Оно представляется как власть, стоящая над обществом (это правда) и над любыми классовыми интересами (это вранье). Государство — святая святых, не подлежащая сомнению. Во времена Суллы природа и роль государственной власти были очевидны для всех. Власть, созданная Суллой, уже не была, как прежде, защитой от внешнего врага. Теперь она оберегала правящий класс от собственных граждан. Здесь мы видим зачатки будущей Преторианской гвардии — прообраза современных спецслужб типа гестапо, ФБР, ФСБ, предназначенных для охраны государства от народа, который по идее должны защищать.
Прибрав к рукам всю власть, Сулла безжалостно расправился с как с народной партией, так и с капиталистами. Начиная со времен Гая Гракха, правительство бесплатно раздавало пролетариату хлеб. Сулла отменил эти раздачи. Гракх поощрял формирование класса капиталистов (всадников), развивая систему откупного налогообложения, посредством которой частные лица могли разорять богатые азиатские провинции в личных интересах. Сулла нанес сокрушительный удар по римским капиталистам, отменив систему откупщиков, и установил в Азии твердые налоги, которые шли прямиком в казну. Гракх предоставил капиталистам привилегированное положение в правовой системе. Сулла отменил суды всадников и восстановил сенатские суды. Короче говоря, Сулла ликвидировал все привилегии всадников, установленные Гаем Гракхом.
Однако невозможно править обществом с помощью голых репрессий, а армия — слишком узкая опора для устойчивости режима. Поэтому Сулла нуждался в политике, которая обеспечит ему социальную базу. Стремясь разом угодить и консерваторам, и демократам, диктатор попытался (правда, без особого успеха) обратить время вспять, создавая на землях Италии мелкие крестьянские хозяйства. Он приказал разделить несколько крупных латифундий между ветеранами своей армии. Две тысячи лет спустя ту же утопическую схему использовали итальянские фашисты — с еще более позорным результатом. Во времена Суллы латифундии доминировали в сельском хозяйстве, так же как сегодня в мире доминируют транснациональные корпорации. Дни мелкого свободного крестьянства давно миновали, и все попытки вернуть их, были обречены на провал.
Какой класс стоял у власти? Теоретически, вся власть принадлежала сенату, но на деле он был только ширмой. Реальная власть находилась в руках Суллы и армии. Чтобы укрепить авторитет сената, Сулла ввел в него 300 новых членов, представляющих молодежь старых аристократических семей и приверженцев Суллы. Эти новые назначенцы были благодарны и полностью лояльны Сулле. Эта мера напоминает «ленинский набор», проведенный Сталиным после смерти Ленина, когда он наводнил большевистскую партию и аппарат своими ставленниками. Классовая природа, конечно, разная, но механизм и тут, и там один. В ситуации, когда правящий класс ослаблен и обескровлен долгими годами борьбы, власть захватывает «сильная личность», которая правит от имени существующего порядка, а по существу узурпирует власть и укрепляет ее, выстраивая по своему разумению.
Не покушаясь на форму старой республиканской демократии, Сулла уничтожил ее реальное содержание. Моммзен объясняет:
«В принципе народу был оставлен суверенитет. Однако, что касается исконных народных собраний, то Сулла счел нужным тщательно сохранить их форму, но еще тщательнее устранить всякую конкретную их деятельность. Даже с правом римского гражданства Сулла поступал весьма пренебрежительно и, не колеблясь, признавал его за городскими общинами новых граждан и широко наделял им испанцев и кельтов».92
Сулла сделал все, чтобы упрочить свою власть, но он кое-что упустил из виду. Римская армия, на которую он опирался, уже не была прежней. Солдаты больше не верили никому, кроме своего командира. Да и тот пользовался доверием, лишь пока давал солдатам возможность грабить. Во время гражданской войны не менее шести полководцев были убиты своими солдатами. Армия почуяла вкус власти и уже не хотела делить ее с кем бы то ни было. Весьма характерно, что Сулла лицемерно отменил смертную казнь, в то время как, его наемные убийцы истребляли его реальных и мнимых врагов во всех краях.
Когда же Сулла попытался вновь подчинить армию своей воле, военачальники воспротивились. Причем главными противниками стали его самые доверенные люди: Гней Помпей, которого он поставил править Сицилией и Африкой, и за которого планировал выдать дочь, и Квинт Офелла. Когда Сулла через сенат потребовал, чтобы Помпей распустил свою армию, тот отказался. Занесшийся Помпей прямо заявил Сулле, что людям милее восходящее солнце, нежели заходящее. Сулла решил не возражать. Офелле повезло меньше. Хоть казнь за политические преступления и была отменена, его публично умертвили на рыночной площади.
Грабеж провинций
При диктатуре Суллы Народная партия (популяры) и капиталисты лишились всяческих прав. Политическая власть перешла от олигархии в руки Суллы и его клики. Самовластие Суллы было беспредельно. Вся система опиралась на эксплуатацию рабов и грабеж колоний. Сулла подарил провинциалам право голоса, но это было пустой формальностью, так как выборы больше ничего не решали. Бросив провинциям эту пустячную подачку, он забирал у них реальные богатства. И, тем не менее, хотя Сулла всячески оскорблял и угнетал капиталистов, отстранив их от реальной политической власти, он не мог без них обойтись.
Десятилетия мятежей и гражданских войн опустошили римскую казну. Сулла нуждался в капиталистах как в источнике денег, но большая часть богатств, минуя казну, утекала в карманы римских капиталистов. Дань, которой он обложил Азию, усилиями откупщиков и посредников выросла в шесть раз. Ростовщики наживали состояния, а провинции пребывали в нищете. Жителям обираемых земель приходилось продавать свои общественные здания, драгоценности, произведения искусства; родителям приходилось продавать детей — все для того, чтобы удовлетворить алчность этих ненасытных пиявок.
Провинции задыхались от непосильного налогового бремени. Сицилия и Сардиния вынуждены были отдавать десятую часть урожая пшеницы и винограда. Кроме того, существовал еще земельный налог, таможенные пошлины и сотня других налогов. Провинция Иудея должна была платить храмовый налог. Еще более тягостным было содержание войск и другие подобные обязательства, как бесплатное жилье для судей, клерков, чтецов, глашатаев, врачей, жрецов и прочих должностных лиц. К этим налогам и податям следует добавить постоянные принудительные продажи и реквизиции. Все это было прекрасным источником обогащения для римских магистратов.
Такое положение было обычным для большинства провинций. Если же жители пытались выступать против своих угнетателей, то их положение еще более ухудшалось. Провинции Малой Азии, восставшие против Рима, Сулла обязал выплатить каждому рядовому римскому солдату сумму его сорокадневного жалованья (16 динариев), а центуриону — семидесятидневного.
К бесплатному пропитанию и жилью прибавилась еще и обязанность поставлять обмундирование. А чтобы еще больше наказать мятежников, солдатам дозволено было приглашать на свои бесплатные пиры любое количество гостей.
И этот перечень податей и оброков еще не полон. Его продолжали многочисленные местные налоги на обслуживание общественных зданий и оплата всех местных услуг. Наконец, но не в последнюю очередь, от поборов страдали земледельцы, так как алчные римские перекупщики присваивали свою долю. Римские магистраты бесстыдно грабили провинции, год от года, измышляя все новые подати.
Римский хищник постоянно высматривал новых жертв. Самым лакомым кусочком была, конечно, Азия. Весь годовой доход Рима составлял лишь две трети дохода Египта. Птолемеи с успехом эксплуатировали сказочное плодородие Нильской Долины, а, кроме того, извлекали большую выгоду из привилегированного расположения Египта как центра мировой торговли. Именно поэтому теперь настала его очередь.
Еще одним источником дохода было рабство. Хотя Сулла политически экспроприировал капиталистов, они все еще удерживали в руках экономическую жизнь Рима. Римские капиталисты продолжали богатеть. Во времена Суллы состояние среднего римского сенатора составляло три миллиона сестерциев, тогда каквсадники имели около двух. Капиталисты и были той силой, которая формировала внешнюю политику Римской державы. Именно ради интересов капиталистов были разрушены Карфаген и Коринф, опасные торговые конкуренты. Невероятный рост работорговли также стал следствием требований римских капиталистов: «Все страны и народы платили ей дань, но, главным образом, охота за рабами производилась в Сирии и во внутренней части Малой Азии».93
То была высшая точка рабовладения. Рабы переполняли Италию. Согласно цензу 70 г. до н. э., число мужчин, способных нести воинскую службу, составляло 910 000 человек. Моммзен полагает, что если прибавить к ним зависимых лиц, иностранцев и других, то все свободное население Италии должно было составлять от 6 млн. до 7 млн. По его подсчетам, число рабов составляло 13–14 млн. — то есть, по два раба на каждого свободного гражданина. Это крайне грубая оценка, но, несомненно, количество рабов было очень высоко и постоянно росло.
Это привело к нескольким крупным восстаниям рабов. Рабы, единственный трудящийся класс, фундамент социальной пирамиды, были абсолютно бесправны и до самой смерти надрывались на непосильной работе. В отличие от них, древнеримский пролетариат был классом-паразитом, зависящим от рабского труда. По этой самой причине классовая борьба в Риме никогда не могла породить новую общественную формацию. Только объединившись, рабы и городская беднота (пролетариат) могли бы сокрушить старое устройство и создать новое. Однако никакого революционного объединения не произошло, результатом чего стала социальная, политическая и культурная деградация.
Возможен ли был другой исход? Могли ли угнетенные классы объединиться? Теоретически такое допустимо, и это доказывает тот факт, что самые радикальные элементы левого крыла народной партии по временам призывали рабов оружию. К сожалению, в решающие моменты пролетарии находили больше общего с капиталистами, а не с рабами. Они оказывались на одной стороне баррикад с угнетателями, а не с угнетенными.
Вырождение
Правление Суллы стало Золотым веком для римского высшего сословия. То были времена, когда богатые становились еще богаче, а бедные — беднее. Символом этого стали грандиозные гладиаторские бои, которые становились все более роскошными и дорогими. В период своего преторства Сулла сам организовал игры с сотней львов. Богачи имели изысканные виллы и сады, заводили собственные маленькие армии, состоящие из рабов. Городской дом богатея Красса со старым парком оценивался в 6 млн. сестерциев. Для сравнения, обычный римский дом стоил около 600 сестерциев.
Римские богачи предавались безделью в роскошных виллах у Неаполитанского залива. Изнутри их дома были еще роскошней, чем снаружи. Стены драпировались дорогими гобеленами и тканями. Вместо старых шерстяных одеяний, женщины облачились в соблазнительные шелковые наряды. Консерваторы сетовали, что новая мода всего лишь подчеркивает наготу. Огромные состояния проматывались в азартных играх. Цены на квалифицированных рабов выросли до небес. За профессионального повара давали 100 000 сестерциев, образованный греческий раб стоил 200 000. Как и в любом классовом обществе, безграмотные и невежественные богачи могли покупать поэтов и философов.
Воцарилась невиданная свобода нравов. Если прежде римляне и не помышляли о разводах, то теперь это стало обычным делом. Римский оратор тех времен высмеивал на Форуме судейских, которые, вместо рассмотрения дел, проводили дни в таверне или борделе:
«Надушенные тонкими духами, окруженные любовницами, они играют в азартные игры. Когда наступает вечер, они зовут слугу и велят ему разузнать, что случилось на форуме, кто говорил за новый законопроект и кто против, какие трибы голосовали за него и какие против. Наконец, они сами отправляются на место суда, как раз вовремя, чтобы не попасть самим под суд. По дороге они останавливаются у каждого укромного переулка, так как желудки их переполнены вином. В плохом настроении духа они являются на место и предоставляют слово сторонам. Те излагают дело. Присяжный вызывает свидетелей, а сам удаляется. Вернувшись, он заявляет, что все слышал, и требует предъявления документов. Просматривая их, он от излишка выпитого вина с трудом может открыть глаза. Затем удаляется, чтобы принять решение, и говорит своим собутыльникам: «Какое мне дело до этих скучных людей? Не пойти ли нам лучше выпить кубок сладкого вина, смешанного с греческим, и поесть жирного дрозда и хорошей рыбы, настоящей щуки с Тибрского острова?»94
Роскошь богачей была столь бесстыдной, что правительству пришлось принять законы, регулирующие расходы, и тем самым несколько ограничить безумную расточительность. Правители Рима опасались реакции, которую мог вызвать у простых римлян такой образ жизни богачей. Но богачи считали себя выше закона. Их показная роскошь была ответом на период правления народной партии, когда им приходилось сносить обиды и преследования. Теперь они — хозяева жизни! И потому они выставляли свое богатство напоказ перед всем миром. Никакие законы не могли их остановить. Подобное поведение — не редкость в мировой истории: так было во Франции времен термидорианской реакции, или в Англии XVII века, после смерти Оливера Кромвеля.
К моральному разложению прибавлялся кризис старой религии и распространение мистических и иррациональных поверий. Древнейшие римляне не были склонны к мистике. Они были простыми крестьянами и практично глядели на жизнь. Религия их была религией землепашцев, довольно провинциальной и прозаической по своей сути. Все деятели той поры мыслили трезво, без малейшей толики мистицизма. Во время войны с Карфагеном римлянам пришлось обучаться войне на море. Они никогда не были морским народом. Однажды, перед сражением с карфагенским флотом, жрец объявил, что предзнаменования неблагоприятны, так как священные цыплята не клюют зерно, которое он им насыпал. В ответ римский флотоводец заявил: «Если они не хотят, есть, пускай пьют». После чего бросил их в море и атаковал врага — хотя, надо признать, и без особого успеха. Лишь в эпоху Суллы римляне начали поддаваться мистическим поверьям. Сам Сулла был малорелигиозен и не имел устойчивой идеологии, но был очень суеверен и верил в Судьбу. Моммзен так описывает верования Суллы:
«Вера Суллы — это вера в абсурд, неизбежно зарождающаяся в душе каждого, кто совершенно отказался от надежды отыскать причинную связь между явлениями. Это — суеверие счастливого игрока, который считает, что судьба дала ему привилегию везде и всегда выигрывать».95
Подобный склад ума был у Цезаря или Наполеона; они постоянно доверялись Судьбе, как и все азартные игроки. Будучи военными авантюристами, они были крайне суеверны. Иногда люди мнят, будто исход сражения решается удачей, словно успешный бросок костей. Такие представления — продукт определенного периода истории, когда существующая социально-экономическая система начинает клониться к своему закату. Этот упадок накладывает печать на психологию людей, с низов до самого верха.
Как говорил Гегель, необходимость выражается через случай. Баловни судьбы были обычными людьми, но они выражали идею, уже ставшую необходимостью в силу процессов, которых люди не видят и не контролируют. Их «удача» — всего лишь иллюзия. Обстоятельства, решающие, кто победит, а кто проиграет, слагаются заранее. Это не исключает роли человека в истории. Однако поле действий отдельной личности строго ограничивается объективной действительностью, которая и определяет конечный результат. История играет судьбами людей, используя крапленые карты.
Распространение мистицизма и иррациональности в поздней Римской республике также не случайно. Во времена, когда производительные силы развиваются и двигают общество вперед, люди верят в существующих богов, принимают существующую этику и согласны с существующими законами.
Однако, когда общественный строй распадается, а производительные силы рушатся, появляются различные психологические фобии. Обостряются неуверенность и скептицизм. Храмы пустеют. Никто больше не верит в старых богов. На их место приходят мистика, безверие и суеверия. Моммзен пишет:
«Римляне разуверились не только в своей старой религии, но и в самих себе. Ужасные потрясения пятидесятилетней революции, инстинктивное чувство, что гражданская война отнюдь не закончена, усиливали тревогу и мрачное настроение народных масс. Беспокойно блуждавшая человеческая мысль взбиралась на все высоты и опускалась во все бездны, где только ей мерещилась возможность добиться разумения грозного рока, найти новые надежды, а быть может, только новый ужас в отчаянной борьбе с судьбой. Безудержный мистицизм нашел благоприятную почву во всеобщем политическом, экономическом, нравственном и религиозном разложении и распространялся с ужасающей быстротой. Казалось, как будто в одну ночь из земли выросли громадные деревья. Никто не знал, откуда они взялись и для чего. Но именно это поразительно быстрое распространение мистицизма творило новые чудеса и подобно эпидемической болезни распространялось на все нестойкие умы».96
Эти строки ясно показывают всю глубину вырождения, разъедавшего самый дух Римской республики. Причем пугают не столько сами описанные здесь события, сколько небрежное и безразличное отношение к ним. Вывод ясен. Отныне республика существовала лишь номинально. Она не могла жить, но не желала умирать. Вопрос был только во времени: когда же найдется палач, способный прервать эту агонию? Точно то же самое можно сказать и о капиталистической системе первой декады XXI века. Читая строки Моммзена, мы будто видим в них описание наших собственных смутных времен.
Взлет Юлия Цезаря и падение республики
Юлий Цезарь (102-44 до н. э.) был выходцем из знатного рода Юлиев — одного из древнейших патрицианских родов Рима, который вел свою историю от Юлия, сына Энея. Когда он погиб, первый римский император Август (Октавиан) принял его имя, а, начиная с Андриана, оно стало использовать как императорский титул. От него происходят немецкое слово «кайзер» и русское «царь». Иными словами, оно стало означать неограниченную власть.
Несмотря на патрицианское происхождение Цезаря, карьера его началась не блестяще. В возрасте 15 лет он потерял отца и стал главой семьи. Его семья была благородна, но бедна. Для политической карьеры в Риме необходимы были большие средства. Цезарь с рождения был авантюристом, он желал большего. Как вспоминают современники, однажды он заявил: «Лучше быть первым в варварской деревне, чем вторым в Риме».
Рано облысевший и страдающий эпилептическими припадками, он, тем не менее, был крайне амбициозен и тщеславен. Рассказывают, будто Цезарь крайне заботился о своей внешности. Согласно Светонию, он пинцетом выщипывал волосы на теле. Некоторые ставят под сомнение его сексуальную ориентацию. О нем говорили, что «он муж для любой жены, и жена для любого мужа». Вероятно, это был навет его врагов, дискредитирующий Цезаря. Он изучал ораторское искусство у греков на острове Родос. Тем не менее, несмотря на свою гладкую кожу, безупречную родословную, знакомство с риторикой и греческой литературой, это был совершенно безжалостный человек.
Историк Плутарх рассказывает, что на пути к Родосу его захватили пираты, которые потребовали выкуп в 20 талантов. Такая сумма поставила Цезаря в затруднение. Впрочем, он сумел сдружиться с разбойниками — вероятно, у них нашлось немало общего. Когда выкуп был собран, Цезарь на прощанье пообещал распять своих тюремщиков. Те, надо думать, приняли это за милую шутку, однако он безжалостно выследил их и сдержал свое слово. И все же он не забыл проявить милосердие к «друзьям»: им великодушно перебили ноги, чтобы сократить агонию.
Карьера Цезаря началась с брака по расчету. Он выбрал себе в жены Корнелию, — дочь Цинны, возглавившего популяров после смерти Мария, к которому был близок и Цезарь. Его тетка Юлия была женой Мария. Поэтому у него были тесные связи с популярами, которых он, несомненно, рассчитывал использовать в своих целях. Когда между популярами (возглавляемыми Марием и Цинной) и оптиматами (под предводительством Суллы) началась гражданская война, Цезарь, к своему неудовольствию, обнаружил, что занял не ту сторону. Сулла разгромил популяров и провозгласил себя диктатором — не на шесть месяцев, как требовал закон, а пожизненно.
За победой Суллы последовал невиданный ранее разгул террора. В первый список жертв угодило сорок сенаторов и 1 600 всадников. Общее число убитых исчислялось тысячами. Цезарю вместе с женой удалось бежать, но все его имущество было конфисковано. Его первая ставка в политической игре оказалась бита. Азартный игрок, каким он и был, не отчаивается от первой неудачи и бросает кости вновь.
Сулла предложил Цезарю перейти на сторону победителей, при условии его развода с женой. Цезарь отказался от этого предложения. Может, он и впрямь так сильно любил Корнелию, но, скорее всего, он просто смотрел дальше, сегодняшнего дня. Перечить человеку, который истребил тысячи людей, — дело рискованное. Семья Цезаря сочла за лучшее отправить его подальше от Рима и Суллы. Он был послан служить в Малую Азию, где проявил себя с самой лучшей стороны. После смерти Суллы он немедленно вернулся в Рим.
Сенат был слишком слаб, чтобы удержать переданную ему Суллой власть. Народная партия оправилась от поражения. В это самое время Италию потрясло грандиозное восстание рабов под предводительством Спартака.97 Городская масса не поддержала мятеж, и тем обрекла его на поражение. Крассу удалось разбить армию рабов. Поражение восстания ослабило движение городских низов. Классовая борьба оказалась в патовой ситуации, когда ни одна из сторон не могла нанести окончательное поражение противнику.
Как мы видели, такая ситуация благоприятна для военных авантюристов, таких как выдвинувшийся в то время Гней Помпей. Помпей взлетел наверх с невероятной скоростью. Во время гражданской войны, в 23-летнем возрасте он командовал тремя легионами на стороне Суллы. Он разбил Мария в Сицилии и Африке и был награжден триумфом. Позднее, в течение четырех лет, он сражался против Сертория в Испании, за что снискал еще один триумф.
Политика трущоб
Рим в те дни напоминал пороховую бочку — нужно было лишь поднести огонь. Низшие классы кипели негодованием после развязанного Суллой кровопролития и разгрома народной партии. Цезарь почувствовал, что настал его час. Его первая жена умерла, он вновь женился на богачке (этот человек умел устроить свою жизнь). Но, чтобы войти в круг избранных, одних денег было мало. Верхушка римского нобилитета видела в нем лишь выскочку. Отринутый ими, он обратился за поддержкой в бедняцкие трущобы.
Римские историки рассказывают: когда сын императора Веспасиана, Тит, попенял отцу, что он не стесняется брать деньги за общественные туалеты, тот поднес к сыновнему носу монету и заявил: «Non olet!», то есть «Не пахнут!» Эта знаменитая фраза могла бы послужить эпиграфом к политической карьере Юлия Цезаря. Он готов был по локоть замараться в крови и дерьме, лишь бы достичь своей цели.
Трущобы Рима, к которым воззвал Цезарь, были гнусным местом, где из окон домов на тротуары лились помои, а улицы были превращены в зловонные клоаки. Но у обитателей этой помойки, деклассированных люмпен-пролетариев, было одно несомненное преимущество — право голоса. Цезарь надеялся использовать их как таран против своих врагов.
Когда умерла его тетка Юлия, он решительно взялся за дело. Ее покойный муж Марий был признанным кумиром популяров, но после воцарения Суллы само его имя попало под запрет. На похоронах Юлии, Юлий Цезарь не только произнес надгробную речь, в которой восхвалял ее мужа, но и велел пронести по улицам портреты и статуи Мария. Вскоре после этого умерла его жена Корнелия, и он вновь восхвалял в своих речах ее покойного отца, революционера Цинну. Так он сумел завоевать доверие народной партии.
Добиваясь народной поддержки, рассказывают современники, он всячески льстил городской бедноте. Цезарь легко разбрасывал деньги на организацию игрищ. Для этого он выписывал диких животных и учинял гладиаторские бои из 320 пар гладиаторов, облаченных в дорогие серебряные доспехи. Цезарь не жалел средств на зрелища для толпы, устраивая даже морские гладиаторские бои на заполненной водой арене. Как говорит Плутарх, «он был щедр в расходах». Иными словами, он банально покупал голоса. Однако, его расточительность превратилась для него в проблему. Тратя без счета, он вскоре лишился средств, и ему оставалась либо изгнание, либо смерть. Цезарь нашел другой путь.
В свои 37 лет, этот циничный человек, не замеченный ранее в особой набожности, вдруг истово обратился к вере. Он решил занять должность Pontifex Maximus — Верховного жреца Рима. Эта должность давала не только престиж, но и солидный патронаж, и как следствие огромные средства. Он, видимо, вознес немало молитв, чтобы обеспечить свое избрание. Но для нас важнее, что он занял огромные денежные суммы на подкуп избирателей. Если бы он победил, то смог бы сполна рассчитаться со своими кредиторами. Поражение же обернулось бы полным крахом всех его надежд. Цезарь победил.
Заговор Катилины
Тем временем, события приняли неожиданный оборот. Примерно в то же время сложился заговор, в который были вовлечены люди из самых разных классов: обнищавшие аристократы, беднота, алчные до денег капиталисты и авантюристы всех мастей. В центре заговора стоял Луций Сергий Катилина (108-62 г. до н. э.), более известный, как Катилина. Как и Цезарь, он был незаурядным человеком. Катилина происходил из той же породы безденежных авантюристов, которых в то время расплодилось немало. Это один из самых загадочных персонажей в римской истории.
Римские историки старательно очерняли память Катилины, особенно постарался его заклятый враг Цицерон. Сегодня трудно определить, что из всего сказанного о нем, правда, а что ложь. Нам точно известно, что, как и Цезарь, он происходил из обедневшей аристократической семьи, сделал выдающуюся военную карьеру в элитных войсках Помпея.
Мы знаем, что римская аристократия боялась и ненавидела его, и понимаем причину этой ненависти и страха. Как и Гракхи, он выступал от имени городской бедноты, кроме всего прочего, призывая к отмене долгов. Катилина не раз доказывал свою храбрость.
Его не единожды отдавали под суд, но каждый раз оправдывали — как говорили злые языки, благодаря вмешательству Цезаря, связанного с Катилиной. Это не исключено, так как Цезарь всегда любил половить рыбку в мутной воде. Катилина, при поддержке Красса, стал кандидатом на консульских выборах 64 г. до н. э. Он не был избран, несмотря на огромные денежные расходы. Консульское место занял «новый римлянин» Цицерон.
На следующий год Катилина вновь выдвинул свою кандидатуру, но к тому времени он потерял поддержку Красса, напугав верхушку своим обещанием аннулировать долги. Ветераны Суллы доверяли ему, но богачи были настроены враждебно. И он опять потерпел поражение. Поняв, что прийти к власти законным путем невозможно, он решил воспользоваться другим методом. В рядах заговорщиков было много патрициев и плебеев, которые, по разным причинам, не могли пробиться наверх. Это были отчаянные люди, исполненные ненависти к существующей власти. Однако главной опорой Катилины были бедняки, которые стекались под его знамена, из-за его обещаний облегчить долговое бремя. Проблема долгов существовала с самых ранних времен республики, но никогда она не была так остра, как в 63 г. до н. э.
Десятилетия войн вконец истощили италийскую деревню. Как мы не раз отмечали, многие бедные фермеры потеряли свои наделы и поневоле бежали в город, пополняя ряды люмпен-пролетариата. Среди сторонников Катилины было много ветеранов армии Суллы, требующих земли. Они готовы были пойти за «новым Суллой». Один из них, Гай Манлий, бывший центурион, был послан в Этрурию, где он смог набрать армию, готовую восстать в любой момент. Саллюстий повествует:
«Тем временем Манлий возмущал в Этрурии народ, который ввиду нищеты и несправедливостей жаждал переворота, так как он при господстве Суллы лишился земель и всего своего достояния, а кроме того, всех разбойников (в этой области их было великое множество) и кое-кого из жителей сулланских колоний — тех, кто из-за распутства и роскоши из огромной добычи не сохранил ничего».98
Готовя мятеж, люди Катилины разъехались по разным концам страны. Вся Италия готова была вспыхнуть от одной-единственной искры. В Капуе, где некогда началось восстание Спартака, произошел новый небольшой бунт рабов. Манлий обратился к своим сторонникам с такими словами:
«Богов и людей призываем мы в свидетели, что мы взялись за оружие не против отечества и не затем, чтобы подвергнуть опасности других людей, но дабы оградить себя от противозакония; из-за произвола и жестокости ростовщиков большинство из нас, несчастных, обнищавших, лишено отечества, все доброго имени и имущества, и ни одному из нас не дозволили ни прибегнуть, по обычаю предков, к законной защите, ни, утратив имущество, сохранить личную свободу: так велика была жестокость ростовщиков и претора».99
В то время как возмущение захватывало один район за другим, Катилина готовил выступление в самом Риме, где, как отмечает Саллюстий, он пользовался восторженной поддержкой бедноты:
«…все же находились граждане, упорно стремившиеся погубить себя и государство. Ведь, несмотря на два постановления сената, ни один из множества сообщников не выдал заговора, соблазнившись наградой, и ни один не покинул лагеря Катилины: столь сильна была болезнь, словно зараза, проникшая в души большинства граждан.
Безумие охватило не одних только заговорщиков; вообще весь простой народ в своем стремлении к переменам одобрял намерения Катилины. Именно они, мне кажется, и соответствовали его нравам. Ведь в государстве те, у кого ничего нет, всегда завидуют состоятельным людям, превозносят дурных, ненавидят старый порядок, жаждут нового, недовольные своим положением, добиваются общей перемены, без забот кормятся волнениями и мятежами, так как нищета легко переносится, когда терять нечего. Но у римского плебса было много оснований поступать столь отчаянно».100
Вот он — типичный вопль ужаса правящего класса, узревшего восстание масс, в какие бы века это не происходило! Сигналом к восстанию должно было стать убийство Цицерона. По-видимому, восставшие готовили убийство многих сенаторов и поджоги. Затем они планировали объединиться с армией Манлия в Этрурии, совместно выступить на Рим и взять власть. Но эти планы сорвало предательство: доносчик успел предупредить Цицерона, и тот смог избежать смерти, окружив дом охраной.
На следующее утро Цицерон созвал сенат и окружил его усиленной охраной. К его удивлению, туда же хладнокровно явился и Катилина. Цицерон обличил его перед сенатом в своих прославленных «Катилинариях», или «Речах против Катилины». Катилина, тем не менее, не собирался сдаваться. В ответном слове он напомнил сенату историю своего рода, который всегда верно служил республике, и призвал собравшихся верить не ложным наветам, а чести его имени. Наконец, он прибег к козырной карте, упрекнув сенаторов, что они верят словам «нового человека» (homo novus) Цицерона, а не ему, нобилю. Возможно, это бы и возымело эффект, но тут он вдруг начал угрожать сенаторам, заявив, что он «разожжет огонь, который поглотит всех».
Прежде, чем сенаторы успели отреагировать на эти угрозы, Катилина успел покинуть сенат и выехать из Рима под предлогом добровольного изгнания. Вскоре, впрочем, он объявился в лагере Манлия в Этрурии и продолжил борьбу. Однако события в Риме приняли фатальный оборот. Заговорщики узнали, что в Рим прибыла делегация галльского племени аллоброгов, с жалобой на непосильное долговое бремя и самоуправство со стороны римского наместника. Заговорщики поспешили наладить с ними контакт, и на совместной встрече посвятили их в свои планы. Скорее всего, аллоброги побоялись связываться с ними и поспешили рассказать обо всем Цицерону.
Это был смертельный удар по заговорщикам. Римляне не могли перенести мысли, что иностранцы будут вмешиваться в их политическую жизнь, тем более, их исконные враги галлы. Цицерон смог перехватить переписку мятежников, которую поспешил огласить перед Сенатом, и потребовал смерти для всех участников заговора. Цезарь воспротивился этому и сперва встретил благожелательный прием, но яростная речь Катона, тридцатидвухлетнего правнука Катона Старшего, свела усилия Цезаря на нет. Катон был ярым защитником аристократии. Он ненавидел Цезаря, а Цезарь платил ему тем же. Судьба пяти схваченных заговорщиков была решена. Они были обречены на смерть, безо всякого суда, и тут же задушены по приказанию Цицерона. Он даже лично препроводил осужденных на казнь, после чего вышел к толпе, собравшейся на Форуме, и объявил о происшедшем. Заговор в Риме провалился.
Когда эта новость достигла лагеря мятежников в Этрурии, многие отступились. Армия повстанцев уменьшилась с десяти до трех тысяч бойцов. Наконец, легионы консула Антония настигли войско Катилины близ Пистории (совр. Пистойя). Невзирая на неравенство сил, Катилина смело принял бой. Видя, что поражение близко, он лично ринулся в гущу сражения. После завершения битвы, победители обнаружили, что никто из повстанцев не отступил ни на шаг. Тело самого Катилины отыскали вдалеке от его солдат, среди множества убитых врагов.
Первый триумвират
Заговор Катилины потряс имущие классы Рима. Живя в окружении масс бедноты, богачи по временам чувствовали себя будто на вулкане. В Риме не существовало никакой полиции для поддержания порядка, и, таким образом, последней надеждой оставалась армия. Среди военных чинов зрела идея о необходимости царской власти, хотя никто и не решался произнести эти страшные слова вслух. Чаще они говорили о сильном правительстве, стабильности и порядке, что подразумевало правление «сильной руки» — военачальника.
Помпей, который прославился, подавив восстание в Испании и уничтожив остатки армии Спартака, имел все возможности стать таким верховным арбитром. Совсем недавно он завершил победоносную компанию на Востоке, и теперь возвращался в Рим с сорокатысячной армией. Поспешная реакция Цицерона на заговор Катилины объясняется именно тем, что Помпей страшил его больше чем кучка неумелых заговорщиков. Самое главное было — не давать Помпею повода для вторжения. Ему приходилось спешить, чтобы задушить заговор прежде, чем Помпей войдет со своей армией в Рим.
Для сената Цицерон, по крайней мере, на время, стал героем и «спасителем Рима». Но то была недолгая слава. Позднее Цицерону пришлось сполна поплатиться за эту «честь». С другой стороны, заговор Катилины повредил Цезарю: его враги одержали победу, а сам он попал под подозрение из-за своих связей с Катилиной и поддержки мятежников. Ему пришлось искать союза с сильными людьми, которые могли оказать ему покровительство. Этим объясняются его последующие действия.
Война не только прославила, но и сказочно обогатила Помпея. Некоторые считали его самым богатым человеком в Риме. Его война на Востоке была победоносной, ему удалось разбить самого опасного врага Рима — Митридата. Прежде, чем вернуться в Рим, он обезопасил Ближний Восток. Он заложил или восстановил пятьдесят городов. Доходы Рима от провинции Азия выросли на 70%.
На его примере Цезарь понял, что самый быстрый способ разбогатеть — война. Чтобы очиститься от подозрений в соучастии в заговоре Катилины, он поспешил покинуть столицу. Он получил назначение в Испанию, где смог проявить свои полководческие таланты. Как и прочие римские наместники, он грабил местное население. При этом он был отнюдь самым не худшим из них. Как и другие подвластные Риму народы, испанцы страдали от долгового бремени, кредиторы отбирали всех их имущество. Цезарь ввел закон, по которому кредиторы могли забирать не более двух третей имущества должника. Сегодня это кажется огромным процентом, но в те времена то была крайне щедрая уступка.
Позднее Цезарь вернулся в Рим, где вновь с головой окунулся в интриги. В искусстве козней он был непревзойденным мастером. На улицах Рима сторонники и противники того или иного кандидата избивали и резали друг друга, а в это время их хозяева маневрировали за их спинами, пытаясь укрепить свои позиции. Подкуп и шантаж были обычными методами в политическом торге. Римский люмпен-пролетариат избрал трибуном другого аристократа Публия Клодия. Это демагог тридцати с лишним лет от роду, совершил стремительную политическую карьеру за счет своей популярности у городской толпы и криминала, цитаделью которых и были городские трущобы. К этому времени Цезарь уже смог заручиться поддержкой плебейских масс. Он поддерживал тесные связи с Клодием и популярами. Тем не менее, его положение оставалось достаточно шатким. Ему недоставало поддержки аристократов.
Выступая в показном обличье народного вождя, Цезарь одновременно пытался наладить контакты с богачами и создать союз с «респектабельными классами». Поэтому после смерти Корнелии он поспешил жениться на Помпее — внучке Суллы, прежнего диктатора и лидера партии оптиматов. Во время отсутствия Гнея Помпея Красс попытался увеличить свое влияние и политическую власть в Риме. Цезарь помог ему в этом, взамен на финансовую помощь, которую он использовал на нужды собственной карьеры.
Красс был твердым защитником интересов всадников, римских капиталистов, представителем которых он был и сам. Он предложил аннексировать Египет, намереваясь послать туда Цезаря, который и должен был разграбить эту страну. Однако Цицерон, при поддержке Помпея и аристократов, отверг этот план. Одним из главных источников богатств римских капиталистов был грабеж провинций посредством высоких налогов. Большинство наместников не мешали публиканам (откупщикам) грабить местное население, так как сами имели с этого доход. Но Помпей, ища популярности, уменьшил налоги в Азии, чем раздражал всадников. Такие действия отдаляли его от Красса.
У Помпея были свои собственные разногласия с сенатом, который отказался выделить землю для ветеранов его армии. Хотя Помпей, предположительно, был на их стороне, сенаторы боялись, что он может использовать свое войско для захвата власти. Теперь с сенатом столкнулся и Красс. Некоторые откупщики переоценивали свою прибыль и теряли деньги. Красс просил сенат пойти на уступки таким незадачливым публиканам. Это было явно неблагоразумно, и сенат отказался. Красс был взбешен; ему казалось, будто сенаторы глубоко оскорбили его.
Цезарю нужно было ловить момент. И Помпей, и Красс рассорились с сенатом. Цезарь мог выступить в роли посредника между ними. Цицерон почувствовал угрозу, и, хотя он понимал неприемлемость требований Красса, он подверг решение сената критике. В Цезаре он видел еще более опасного врага, чем Помпей. Он прямо говорил: «[я боюсь его], как боюсь улыбающегося лика моря».
Опасения Цицерона были вполне обоснованы. Цезарь вступил в союз с Помпеем. Он выдал за него свою единственную дочь Юлию — так в Риме обычно закрепляли политические союзы. Цезарь также надеялся перетянуть на свою сторону Красса. Но тут существовала одна проблема: Помпей и Красс не ладили друг с другом. Красс не забыл, как Помпей украл у него славу победителя Спартака. Он хорошо помнил, как сенат наградил Помпея триумфом, отказав в такой же почести ему самому. Кроме того, Помпей посягнул на интересы откупщиков, друзей Красса.
Завоевывая поддержку Помпея, Цезарь вовсю распускал слухи о том, что видные сторонники правящей партии намереваются убить Помпея. Цицерон не сомневался, что источником сплетен был сам Цезарь, надеявшийся запугать Помпея и сделать его инструментом в своих руках (59 г. до н. э.). Это были его первые шаги к намеченной цели. Хотя Цезарь не имел финансовых средств и политического влияния, сравнимых с его подельниками, он мог играть роль арбитра в примирении Помпея и Красса. Союз этой троицы стал известен как первый Триумвират. Триумвиры стали альтернативным сенату политическим центром. Создание подобной клики стало первым знаком того, что конец республики не за горами.
Консулы Юлий и Цезарь
Цезарь шел к власти с типичным для него цинизмом и жестокостью. Выдвигаться на должность консула было можно только с 40 лет. Цезарю было всего 30, но это не остановило его. По римским законам консулов должно было быть два. В 59 г. до н. э. он занял консульское кресло; второе досталось консерватору Библу. Это никак не устраивало Цезаря, и он без труда решил проблему. С помощью Клодия он нанял в трущобах бандитов, которые оскорбляли и нападали на Библа, каждый раз, когда тот выходил на улицу. Столкновение с консерваторами становилось неизбежным, и скоро оно произошло.
Одним из первых деяний Цезаря на посту консула стал закон о предоставлении ветеранам Помпея земельных наделов. Очевидно, это было одним из пунктов соглашения с Помпеем, как плата за его поддержку на выборах. Однако Цезарь также не забыл и о своих интересах, введя в этот закон пункт о предоставлении части земель римской бедноте. Это нововведение вызвало гнев консерваторов, которым оно живо напомнило о временах Гракхов.
Катон, заклятый враг Цезаря, яростно выступал против закона, и Цезарь приказал арестовать его. Позднее его освободили, но теперь две партии находились в серьезной конфронтации. Консерваторы собирались заблокировать новый закон в сенате. Тогда Цезарь решил обойти сенат, и вынес законопроект непосредственно на рассмотрение народного собрания. Этот шаг еще больше напугал консерваторов возвращением призрака Гракхов. Собрание проходило в бурной обстановке. К всеобщему удивлению, Помпей и Красс поддержали новый закон; таким образом, их союз с Цезарем, стал очевиден всем.
Консерватор Библ попытался выступить против закона, но во время речи его сперва освистали, а потом окатили ведром нечистот. После этого случая Библ решил уйти из политики, заявив, что он узрел в небе дурные предзнаменования. Остаток своей жизни он провел в добровольной изоляции, не выходя из дома в страхе перед гневом богов и более реальным ушатом дерьма в лицо. После этого римляне острили о «консульстве Юлия и Цезаря».
К этому времени межклассовая напряженность достигла предела. В январе 52 г. до н. э. на Аппиевой дороге сторонники консерватора Милона убили Клодия. Клодий, принявший закон о бесплатной раздаче зерна римлянам, пользовался народной любовью. Тело убитого трибуна было выставлено на всеобщее обозрение, и вид его, а также слезы вдовы разожгли недовольство народных масс. Начался бунт, переросший в настоящее восстание. Разъяренные толпы подожгли здание курии и бесчинствовали на улицах, громя имущество и нападая на всех богато одетых людей. Такая реакция масс нисколько не удивительна, если вспомнить какая пропасть разделяла богатых и бедных.
Галльская кампания
Цезарь рассматривал политику как своего рода коммерческое предприятие. Как мы знаем, его продвижение вверх требовало постоянной денежной подпитки. Он тратил огромные суммы на подкуп избирателей и давал взятки высокопоставленным лицам, поэтому денег постоянно не хватало. У Цезаря возникли финансовые проблемы. Деньги можно было только взять взаймы, а долги рано или поздно нужно возвращать.
Чтобы разделаться с этой трудностью, было два выхода: либо выгодное назначение на хлебную должность провинциального наместника, либо удачная военная компания, которая даст необходимые средства. Противники Цезаря в сенате хорошо знали о его неплатежеспособности, и поэтому предложили ему незначительный пост в отдаленном районе Италии, которая не сулила никакой возможности обогащения.
Посредством взяток и интриг, Цезарь смог добиться отмены этого решения. Взамен он получил назначение на должность проконсула в Цизальпинскую Италию и Иллирию (нынешняя Албания). Эта должность сулила обогащение. Внезапная смерть наместника Трансальпийской Галлии (современные Франция, Швейцария и Бельгия), стал для него неожиданным подарком судьбы. Эти непокорные земли давно тревожили сенаторов, и потому они, против воли, передали контроль над ними Цезарю.
Он же только об этом и мечтал: маленькая победоносная война была ему необходима как воздух. Как мы уже видели, Помпей сколотил свое огромное состояние во время войны в Азии. Чтобы обойти своих конкурентов, Цезарю были необходимы еще более грандиозные победы. Если ему удастся истребить несколько тысяч иноземцев, то он получит право на триумф, и деньги снова потекут к нему рекой. В 55 г. до н. э. судьба вновь улыбнулась ему. Галльское племя гельветов вторглось в Италию. Лучшего шанса не могло и быть.
На самом деле набег гельветов не угрожал Риму. Скорее всего, племя просто кочевало в сторону Атлантического побережья Галлии, где и намеревалось осесть. Однако римляне крайне нервно относились к галльским набегам. Они еще помнили о временах, когда галлы захватили Рим. Те события глубоко укоренились в массовом сознании, и страх перед галлами отпечатался в памяти народа. В результате, Цезарь получил то, о чем так долго мечтал — командование армией.
Знаменитые записки Цезаря о галльской войне (De Bello Gallico) приобрели статус классического литературного памятника и серьезного исторического документа. На самом же деле, это не отчет и не исторический документ, а блестящий пример грамотной саморекламы. Знаменитые военные комментарии, написанные от третьего лица, являются документом огромной исторической ценности, но они не строго историчны. Написанные четким, кратким латинским стилем, они не лишены литературных достоинств, но это все же не литература. В первую очередь это шедевр политической пропаганды, изобретателем которой с полным основанием можно назвать Цезаря. Они написаны с одной лишь целью — прославить Цезаря и преувеличить его победы. Имя Цезаря упоминается в «Записках» не менее 775 раз.
В этой книге много преувеличений и даже прямой лжи. Цезарь уверяет, что войско гельветов насчитывало 368 000 мечей. Современные историки, такие как Фургер-Гунти, оценивают армию гельветов в 40 000 воинов, при общей численности племени в 160 000 человек. Дельбрюк говорит о еще меньших числах: при общей численности в 100 000, войско составляло всего 16 000 человек, которым противостояло 30 000 римлян. Большинство племени составляли старики, женщины и дети.
Само сражение не было столь уж великолепной победой, как представлял Цезарь. Основная часть гельветского войска смогла отступить во время вечерних сумерек, ночью колонна ушла на северо-запад и спустя четыре дня достигла земель племени лингонов. Таким образом, вопреки заверениям Цезаря, который представил их отступление как беспорядочное паническое бегство, галлы ушли спокойно: скорость их движения не превышала 40 км. в день. Цезарь, несмотря на все свои победные реляции, три дня не мог отправиться в погоню «из-за раненых и убитых».
Мы не можем подсчитать потери, но несомненно, что эта война сопровождалась дикой резней. Согласно Плутарху, из трех миллионов галльских солдат, участвовавших в войне, один миллион погиб, а еще один — попал в плен. Скорее всего, эти цифры преувеличены (тогда не принято было плакать о погибших врагах, чем больше убито — тем лучше). Но сомнений нет: число убитых и порабощенных было велико. В Риме это оценили как несомненное достижение Цезаря. В те времена захватчики и агрессоры не считали нужным прикрывать свои истинные цели маской «гуманитарной миссии».
Не подлежит сомнению, что Цезарь был выдающимся полководцем, но он был и крайне жестоким человеком, готовым на любые зверства и обманы во имя своей цели. Галльская война была отмечена чрезвычайной бесчеловечностью. Сам Цезарь подтверждает слова Плутарха о миллионе убитых, и это не считая мирного населения! В этой войне проявилось поистине уродливое лицо римского экспансионизма. Если бы галлы восстали против Рима, их безжалостно вырезали бы без всякого милосердия. Римляне стремились навек посеять страх в сердцах угнетенных народов.
Главной целью войны был захват новых рабов, чтобы насытить Молоха римского рабовладения. Эта война, как и все предыдущие, превратилась в охоту за рабами. Несмотря на всю ее дикость и жестокость, нельзя отрицать полководческий талант Цезаря. Он был выдающимся военачальником того времени. «Записки» свидетельствуют, что он также был талантливым писателем, и тем не менее, как мы уже видели, у его книги есть определенная практическая цель — возвеличивание своей личности ради политической карьеры. Как и многие авантюристы, Цезарь был смелым человеком и отчаянным игроком, готовым поставить на кон все. Этим он отличался всю свою жизнь.
Помпей против Цезаря
С точки зрения Цезаря, война в Галлии была грандиозным успехом. Он сломил сопротивление галлов, захватив Алезию, во время осады, которой, вождь Верцингеторикс сделал последнюю отчаянную попытку разбить римлян. Между 58и 50 г. до н. э., Цезарь завоевал обширные территории, в наши дни известные под именем Франции. Не удовлетворяясь этим, он в 55 г. до н. э. форсировал Ла-Манш и вторгся в Британию — остров, овеянный тайнами и «расположенный за дальними пределами океана». Хотя он и не смог покорить бриттов, его полководческая слава упрочилась. Теперь он мог вернуться в Рим и пожать плоды успеха.
Высшие сословия видели в Помпее своего спасителя. Теперь они заискивали перед ним, Цицерон называл его «божественным консулом». Тем не менее, пока «божественный» Помпей почивал на лаврах и наслаждался любовью высшего света в Риме, Цезарь возвращался окруженный преданными ему солдатами, которые мечтали о грабежах и воинской славе, надеясь сделать блистательную политическую карьеру. В его окружении было много честолюбивых молодых людей, готовых идти за Цезарем в огонь и в воду, в поисках славы и богатства. Именно они сформировали костяк партии Цезаря.
В конечном итоге, Цезарь оказался более удачливым политиком: он умело балансировал между классами, создавая себе политическую поддержку в Риме и репутацию успешного полководца за его пределами. Судьба республики должна была решиться в борьбе этих двух римских полководцев.
Рубикон перейден
Галльская война подарила Цезарю гораздо большую славу, чем у Помпея. Он смог усилить свое влияние в Риме и предложить римлянам новые заманчивые перспективы. До тех пор римляне не могли твердо укрепиться по ту сторону Альп. Хотя две экспедиции в Альбион не принесли материальных приобретений, они чрезвычайно повысили престиж Цезаря. Выдвинув программу новых завоеваний за Альпийским хребтом, вплоть до туманных берегов Альбиона, он сумел обнадежить римлян перспективой новых грабежей.
Свое возвращение в Рим Цезарь отпраздновал грандиозным триумфом, демонстрируя плоды своих завоеваний: золото, серебро, драгоценности. Награбив столько добра, он с легкостью расплатился со своими кредиторами и нанял толпы клевретов. Проницательный политик, он играл на недовольстве люмпен-пролетариата, из которого создал цезаристскую партию. Помимо сильной армии, сплотившейся вокруг него в ходе галльской войны, у него появилась основа и в самом Риме. Теперь он мог реально бороться за власть. Главной опорой Цезаря, тем не менее, всегда оставалась армия.
Создание триумвирата (Цезарь, Помпей и Красс) было первым шагом на пути уничтожения республики и замены ее единовластием. Сам триумвират не был монолитен, и со временем начал расшатываться. Встал вопрос: кому править Римом? Помпей теперь снова стал представителем сената и аристократии, которые видели в нем противовес Цезарю. После своих побед в Галлии, тот стал опасным противником. Цезарь со своей армией возвращался в Рим. Сенат увидел в нем главную опасность для себя.
В этот момент триумвират неожиданно получил смертельный удар. Красс, некогда разгромивший Спартака, отчаянно пытался добиться военной славы, сопоставимой с величием Помпея и Цезаря (победа над рабами не считалась полноценной). Поэтому он отправился на Восток воевать с парфянами, однако фортуна была к нему жестока: в 53 году до н. э. его легионы были разбиты при Каррах (теперь город Харран в Турции) меньшей по размеру парфянской армией, состоящей из тяжелой конницы. Позднее парфяне смогли заманить Красса в свой лагерь, схватить и казнить. Рассказывают, что ему в горло залили расплавленное золото, до которого он был так жаден. Если все так и было, то это был самый подходящий конец для убийцы Спартака и палача многих тысяч рабов.
После такого удара триумвират рухнул. Между Цезарем и Помпеем развернулась борьба за власть над республикой. В этих двух полководцах воплотились враждебные силы римского общества. Помпей начинал сторонником Суллы и оптиматов, позднее заигрывал с популярами и стал союзником Цезаря. Теперь он вновь встал на сторону сената, старой республики и аристократической партии. Ему противостоял Цезарь со своими легионами. Это противостояние между видными личностями нельзя было разрешить мирными дебатами в сенате.
Цезарь был великим политическим приспособленцем, который хорошо понимал, как использовать ситуацию в своих интересах. Он всегда действовал решительно и без колебаний, непреклонно идя к выбранной цели. По словам Гегеля, он был прав, так как «создал элемент посредничества и такую политическую связь, которой требовали человеческие условия». Другими словами, Цезарь балансировал между двумя противоборствующими силами. Но постепенно он прибирал к рукам всю политическую власть. Таков истинный смысл цезаризма.
Классовая основа цезаризма
Авантюрист Цезарь привлек под свои знамена всякого рода недовольных. Историк Сайм говорит:
«Когда Цезарь вступил в войну с правительством, его энергичные и отчаянные сторонники устрашили собственников. Правда, не надолго — они были малочисленны и их можно было легко сдержать. Дело последователей Цезаря изначально было революционным, привлекая всех врагов общества — старых солдат, растративших пособия и земли, нечистоплотных ростовщиков, недобросовестных вольноотпущенников, честолюбивых выходцев из обнищавшего нобилитета городов Италии. Опасность была реальна, но реальна была и награда — земля, деньги и власть, богатства и привилегии нобилитета, и дочери патрициев в жены». (Выделено А. В.)101
Именно они стали тараном Цезаря, с помощью которого он сломил сопротивление сената. Однако реальной опорой цезаризма был не люмпен-пролетариат Рима, а определенные слои олигархии: мы говорим не о старых аристократических родах, которые заправляли сенатом и постоянно противодействовали Цезарю, а о классе римских капиталистов — «новых людях», ростовщиках и финансистах, которые чувствовали себя обделенными политической властью. Они надеялись использовать Цезаря и толпу в своих собственных интересах, но, как выяснилось чуть позже, Цезарь сам использовал их (и их деньги) для захвата личной власти. Подобная ситуация еще не раз возникала в мировой истории: например, отношения между французской буржуазией и Луи Бонапартом, между немецкими капиталистами и Гитлером.
Тем не менее, пока Цезарь находился в затруднительном положении. Убийство Клодия ослабило народную партию. Цицерон, используя свое ораторское и литературное искусство, всячески нападал на Цезаря. Сенаторы сумели посеять раздор между Помпеем и Цезарем, и использовали немалый авторитет первого против второго. Враги Цезаря все еще доминировали в сенате, а армия Помпея до сих пор была грозной силой. Кроме того, завоеванная Цезарем Галлия, оказалась не такой уж легкой добычей. В любой момент тамошние племена могли восстать против Римского владычества.
В такой ситуации для Цезаря главной задачей оставалось сохранить свою армию. Если бы он хоть на некоторое время потерял бы ее поддержку, то враги в Риме немедленно подвергли бы его судебному преследованию:
«Отступи он сейчас, это был бы конец. Вернувшись в Рим как частное лицо, Цезарь был бы сразу попал под суд своих врагов за вымогательство или измену. Они бы наняли адвокатов, прославленных красноречием, принципиальностью и патриотизмом. Его дожидался озлобленный и неподкупный Катон. Скрупулезно подобранные судьи, с моральной поддержкой в виде помпеевских головорезов вокруг суда, вынесли бы неизбежный приговор. После этого Цезарю не осталось бы ничего, кроме как присоединиться к сосланному в Массалию Милону — кушать кефаль и наслаждаться эллинской культурой этого университетского города. Цезарь вынужден был обратиться за защитой к армии».102
Анализ Сайма, без сомнения, верен. Но вряд ли Цезарь смог бы отделаться изгнанием. Более вероятным исходом стала бы смертная казнь. Поэтому перед ним стоял вопрос что делать, после того как срок его полномочий истечет. Неужто ему придется добровольно отказаться от контроля над своими легионами? В этой ситуации с полной силой проявилась сущность государства как вооруженной группы людей.
В июне 51 г. до н. э. сенат поднял вопрос о командовании войсками в Галлии. Тем временем Помпей объявил о своих разногласиях с Цезарем. Стало ясно, что судьба Рима решиться в открытой борьбе между этими двумя полководцами. Хотя теоретически сенат был верховной римской властью, фактически у него уже не было сил для правления. Сенаторы могли издавать декреты и произносить пламенные речи, но конечном итоге, они были бессильны. Вопрос решали не речи и законы, а мечи и копья.
Несмотря на этот очевидный факт, сенаторы продолжали свою конституционную игру. Странная и неизлечимая болезнь, которую Маркс называл «парламентским кретинизмом», появилась на свет отнюдь не вчера. В ноябре 50 г. сенаторы торжественно проголосовали (370 голосами против 22), что Помпей и Цезарь обязаны распустить свои армии. Беда состояла в том, что ни один человек не мог провести это решение в жизнь. Кроме того, было ясно, что сенат крайне нуждается в легионах Помпея для борьбы с Цезарем. Это подтверждает тот факт, что консул, выбранный в том году, вскоре покинул Рим, развязав Помпею руки.
Со своей стороны, Цезарь, продемонстрировал, что тоже умеет играть в конституционные игры. Он засыпал Рим письмами, в которых обосновывал свое право командовать своей армией. Консул Лентул, принадлежавший к аристократической партии, потребовал в сенате, чтобы Цезарь определил дату, до которой он будет руководить своими легионами. На это предложение наложили вето трибуны, одним из которых был молодой сторонник Цезаря Марк Антоний. Время для конституционных маневров теперь ушло в прошлое. 7 января Лентул предложил так называемый окончательный декрет против трибунов, которые наложили свое вето. Марк Антоний и его соратники поняли грозящую им опасность и поспешили бежать из Рима, чтобы присоединиться к Цезарю. Цезарь для привлечения армии на свою сторону использовал те же психологические приемы, какие он применял для получения массовой поддержке римлян. Он смог переманить на свою сторону солдат, которые теперь были полностью преданы ему лично. Он сплотил их обещанием раздачи земли. Римский сенат начал против него судебное расследование и приказал вернуться в Рим. Цезарь отказался. Это означало объявление войны. Цицерон, который ненавидел Цезаря, выступал с гневными речами против «этого несчастного безумца». Наконец, сенат послал против мятежника легионы Помпея.
Цезарь ответил смелым и отчаянным поступком. Он находился в Цизальпинской Галлии с небольшим войском. Казалось, что у него нет никаких шансов против Помпея. Тем не менее, он ни секунды не колебался. 10 января он подошел к реке Рубикон, традиционной северной границе Италии. Переход ее во главе армии стал бы актом открытого восстания. Театрально объявив: «Жребий брошен!», он пересек Рубикон. Даже в этой исторической фразе он использовал лексику заядлых игроков. Крылатые слова означали: пути назад нет! Гражданская война началась.
Цезарь балансирует между классами
Цицерон, который поддерживал республику — т. е., интересы старой аристократической сенаторской партии — вел двойную игру. Он примкнул к Помпею, так как надеялся использовать своего старого врага против Цезаря, а уж затем, при помощи сената, сокрушить и самого Помпея. Он с воодушевлением смотрел, как между двумя бывшими союзниками разгорается война:
«Исходное положение, из-за которого намерены сразиться те, кто у власти, следующее: Гней Помпей решил не допускать избрания Гая Цезаря консулом, если он не передаст войска и провинции; Цезарь же убежден, что он не может быть невредимым, если расстанется с войском; тем не менее он предлагает условие, чтобы оба передали войска. Так те любовные отношения и завистливый союз не докатываются до скрытого недоброжелательства, но прорываются в войну…»103
Цицерон и сенат полагали, что Цезаря ожидает скорый разгром. Они надеялись на помощь североиталийских городов, но просчитались. Несмотря на малочисленность, армия Цезаря стремительно шла вперед, не встречая особого сопротивления. Одной из причин этой легкости было недовольство италийских провинций Римом и его сенатом. Свою роль сыграли и деньги, которыми Цезарь подкупал провинциалов.
Цицерон сетовал, что многие богатые латинские семьи с радостью соглашались хранить нейтралитет в гражданской войне. Как нередко бывает в истории, богачи не спешат ставить под угрозу свое состояние и землю, даже тогда, когда решаются их классовые интересы. Даже в самом Риме многие богатые сторонники сената пытались увильнуть от борьбы, как только она разгорелась всерьез. Они стремились оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, пока не выяснится, чья возьмет.
Умный и дальновидный политик, Цезарь пытался убедить колеблющихся врагов, что он не так страшен, как его изображают. Он распускал слухи, что он является поборником свободы, а имя Цезарь — синоним слова «милосердие». Чтобы поддержать подобные настроения, он даже послал письмо Помпею с предложением мира.
Ему удалось одурачить даже такого прожженного политикана как Цицерон, который согласился стать посредником между двумя этими военачальниками. Однако все это было лишь дымовой завесой, с помощью которой Цезарь рассчитывал выиграть время и ослабить врагов.
В отличие от обманутого Цицерона, Помпей все хорошо понял. Встревоженный стремительным продвижением Цезаря (он надеялся на серьезную помощь латинян), Помпей спешно покинул Рим, и отправился на юг, в порт Брундизия, откуда отплыл в Грецию. Он сообщил сенаторам, что это всего лишь тактический маневр, цель которого — собрать необходимые силы для защиты Рима. Скорее всего, то был правильный ход. Помпей понимал, что бороться с Цезарем внутри Италии бессмысленно. В Греции же он надеялся перегруппировать свою армию и, используя богатства Востока, медленно экономически удушить Рим, контролируя поставки египетского зерна. Это был неплохой план. В конце концов, долго ли Цезарь мог сохранять поддержку римских масс, не раздавая даровой хлеб?
С военной точки зрения это было мудро, но политически решение оставить Рим было фатальным, так как в гражданских войнах, еще более чем в обычных, решающую роль играют моральные и политические факторы. Римляне и сенат увидели в его отъезде трусливое бегство. Закаленная в войне с Галлией армия Цезаря прошла через страну как нож сквозь масло. Сопротивление сената было сломлено. Города и деревни открывали Цезарю ворота. Его враги бежали из Рима. Рим лежал перед Цезарем безо всякой защиты. Сенат покорно ожидал своей участи, массы с надеждой ждали своего освободителя. Вступив в Рим, Цезарь удивил и тех и других.
Цезарь маневрировал между классами, чтобы надежнее прибрать к рукам государственную власть. Когда в апреле 49 г. до н. э. он наконец подошел к Риму, он не разрешил своей армии войти в город, расположив ее за городскими воротами. Аристократы этого не ожидали. Петля, захлестнувшаяся было на их жирных шеях, внезапно ослабла. Цезарь, казалось, заявил им: я уважаю верховенство закона и священные конституционные права римского сената. Однако все это было частью политической игры. Цезарь был готов оставить сенаторам призрачную надежду на сохранение власти, пока он не будет в силах править единолично.
Он довольно быстро смог показать, кто хозяин в доме. Цезарь полностью контролировал ситуацию. Теперь он вошел в Рим во главе армии, как триумфатор. Толпа неистовствовала, слуга сопровождал его на колеснице, нашептывая: «Помни, и ты смертен». Триумф проходил от имени сената и римлян. Сенат был не в силах помешать ему и его армии. Сенаторам пришлось признать его диктатором, как предполагалась, на положенные по закону шесть месяцев.
Действия Цезаря определялись двумя основными факторами: деньги и сила, которые были тесно связаны между собой. Его главной силой были легионы, чью верность приходилось подкреплять деньгами. С тех пор, как он вернулся из Галлии, он сулил своим солдатам награду за помощь. Увы, хотя он и награбил в Галлии огромную добычу, ему вечно не хватало золота для выполнения своих обещаний. Такое положение дел уже привело к одному мятежу, и Цезарь боялся, что недовольство будет распространяться все шире. Теперь армия вступила в Рим, и не собиралась и дальше ждать обещанной награды. Поэтому Цезарь незамедлительно потребовал ключи от казны. Один из трибунов, ссылаясь на римские законы, отказался предоставить ему их. В ответ Цезарь ясно показал, кто теперь решает, что законно, а что нет. Он пригрозил несговорчивому трибуну смертью. Само собой, ворота казны немедленно распахнулись.
Фарсал
Укрепившись в Риме, Цезарь смог перейти в наступление и на фронте. Сперва он двинулся на Испанию, где не без труда разбил основные силы Помпея. Эта победа далась ему тяжело, иногда казалось, что Цезаря ждет поражение. И все же, фортуна авантюриста не покинула его. Решающая битва должна была произойти в Греции, где Помпей пытался набрать новую армию.
Цезарь, хотя и происходил из старинного аристократического рода Юлиев, имел поддержку плебейских масс и народной партии. В их представлении он боролся за права и свободы народа, тогда как Помпей, казалось, выражал интересы сената и защищал республику. Проблема была в том, что эти права и свободы были несовместимы.
Республика и ее учреждения долгое время были инструментом в руках привилегированного круга аристократических рабовладельцев, и за республиканским фасадом крылись амбиции этих самых богатых эксплуататоров. Именно их интересы и защищал Помпей.
Цезарь поочередно завоевал Италию, Испанию и Грецию, окончательно разбив Помпея у греческого города Фарсал. Это сражение решило судьбу римской республики, хотя в реальности она была решена гораздо раньше. Цезарь и Помпей представляли две фракции олигархии. Рональд Сайм говорит:
«Полководческие амбиции Помпея и Цезаря вызвали гражданскую войну, но никто не собирался учинять революции. Цезарь, состоявший в тесной связи с ростовщическими кругами и землевладельцами-нобилями, менее всего помышлял о радикальном перераспределении собственности в Италии. Он поддерживал позицию Суллы. Далее, многие из его колоний создавались на провинциальной почве. Партийность преобладала, когда Цезарь воевал с Помпеем — однако в дальнейшем Цезарь никогда не держался одной-единственной стороны, и диктатор возвышался над партиями. Он не защищал один класс против другого. Если он и начал революцию, то следующим шагом должен был затормозить ее, дабы укрепить существующий порядок».104
Если бы победителем вышел Помпей, дело кончилось бы так же. Вместо одной банды Римом овладела бы другая, вот и вся разница. Скорее всего, диктатура Помпея была бы более кровавой и откровенной, подобной диктатуре Суллы, тогда как диктатура Цезаря была более лицемерной и скрытой, единоличное правление прикрывалось фиговым листком «уважения» к республиканским законам и конституции. Так что, кто бы не победил, республика все равно была обречена. Все что от нее осталось — просто название, без всякого содержания. Малейший ветерок обрушил бы ее словно карточный домик.
«Эту важную перемену не следует считать чем-то случайным; она была необходима и вызвана обстоятельствами. Демократическая конституция не могла уже сохраняться в Риме, а соблюдалась лишь с виду».105
Цицерон и прочие вожди республиканской фракции винили в упадке республики отдельных людей и их страсти. Катон говорил о Цезаре: «Будь прокляты его достоинства, поскольку они разрушили мою страну!» Потому они полагали, что сохранить римскую республику означало устранить ее главного противника. Но тем самым они лишь подтверждали свою понять природу государства и римского государства в частности. Гегель указывает:
«Но республику уничтожила не случайность, не личность Цезаря, а необходимость. Римский принцип целиком основывался на господстве и военной власти; он не заключал в себе никакого духовного центра для целей творчества и духовного наслаждения. Патриотическая цель поддержать государство исчезает, когда субъективное стремление к владычеству становится господствующей страстью. Граждане стали чужды государству, потому что они не находили в нем объективного удовлетворения…»106
Республика погибла, так как больше не могла существовать. Из писаний Цицерона мы видим, как все общественные связи были подмяты частными интересами наиболее именитых граждан — их властью, их богатством. Все политические действия сопровождались бунтами, убийствами и скандалами. Богатые больше не чувствовали себя в безопасности, а бедные не ощущали удовлетворения. Такая ситуация, если она затягивается и не имеет разрешения, неизбежно порождает жажду стабильности и порядка. Эти надежды выражаются в появлении Партии порядка и, как следствие, ведут к подчинению всех воле одного: Сильной личности.
Эта гражданская война затронула оказались многие интересы. В большинстве случаев с обеих сторон это был голый личный интерес — желание любой ценой сохранить нынешний порядок (главным образом, плоды грабежей и конфискаций времен диктатуры Суллы) или, напротив, изменить ситуацию в свою пользу, т. е. отобрать власть и собственность у нынешних правителей. Кроме таких людей, были еще идеалисты вроде Цицерона и Брута, которые, кажется, искренне поддерживали республику и были убеждены, что именно они борются за «свободу», хотя такие же идеалисты неизбежно имелись и в противоположном лагере.
Цицерон был самым ярым противником Цезаря среди единомышленников Помпея, но даже его потрясло увиденное и услышанное в помпеевском лагере. Он был поражен и напуган речами и хвастовством Помпея и его сторонников. «Его речи были столь кровожадны, что я содрогался при одной мысли о возможности его победы», — признавался Цицерон.
Эти разбойники уже делили добычу и власть, которые они надеялись получить после еще не одержанной победы. Им не повезло: они проиграли войну. К тому же Помпей совершил одну грубую политическую ошибку — он призвал на помощь восточных владык. Такой шаг стал наилучшим пропагандистским подарком Цезарю, который, как мы уже отмечали, был замечательный демагог. Когда в Риме узнали, что Помпей вербует на свою сторону варварских вождей, его популярность, и так уже ослабшая из-за бегства Помпея из столицы, резко пошла на убыль. Одновременно, акции Цезаря стали расти.
Революция и контрреволюция — всегда борьба двух живых сил. Помпей был застигнут врасплох стремительной реакцией Цезаря, который, вопреки общепринятой практике, пересек море в опасный зимний сезон и высадился в Греции с относительно небольшими силами. Позднее к нему присоединился Марк Антоний. По крайней мере два раза после высадки в Греции, казалось, будто Цезарю не избежать поражения. Вторым критическим моментом, стало знаменитое сражение на равнинах Фарсала, в Фессалии, где 9 августа 48 г. до н. э. произошла битва между этими полководцами.
У Помпея было гораздо больше сил. Несмотря на это, осторожный Помпей опасался вступать в бой с опытной армией Цезаря. Положение Цезаря в этот момент было незавидно. Его армия воевала впроголодь, тогда как Помпей, контролировавший основные греческие города, не имел проблем с провиантом. Именно поэтому, несмотря на неблагоприятное соотношение сил, Цезарь искал сражения, иначе ему пришлось бы ретироваться из Греции. Все его попытки выманить Помпея поначалу не приносили результата. В конце концов, под давлением других лидеров, Помпей неохотно согласился дать бой. Эти аристократы были крайне высокомерны, самонадеянны и, в отличие от Помпея, недооценивали армию своего противника. Им пришлось заплатить очень дорогую цену за свою чрезмерную уверенность.
Исход битвы отнюдь не был предрешен заранее. У Помпея было 45 000 пехоты и 10 000 конницы. Цезарь располагал лишь 22 000. Солдаты Помпея была сыты и не измотаны походом. Легионы Цезаря были голодными, усталыми, и уже потерпели одно серьезное поражение от помпеевских войск. С другой стороны, за Цезаря сражались закаленные в галльской войне ветераны, в отличие от неопытных новобранцев противной стороны. Результат сражения решило превосходство командования — нерешительность и осторожность Помпея спасовала перед напором и авантюризмом Цезаря. Здесь мы снова находим подтверждение известного Дантоновского совета революционерам: «Смелость, смелость и еще раз смелость!»
Перед началом сражения Цезарь, по обыкновению, чтобы повысить боевой дух, произнес пламенную речь перед своим войском. Человек, выступивший против законного органа власти, сената, теперь стремился оправдать свои действия перед солдатами. Согласно Лукану, которому принадлежит самый известный отчет о произошедшем сражении, Цезарь произнес потрясающие слова: «Он по решению судьбы покажет, кто с правом законным // В руки оружие взял: побежденный будет виновным!»107
Он заверил их, что, несмотря на численное превосходство, войска Помпея никуда не годятся, так как большинство из них составляют греки и варвары. Тем самым, он воззвал к римской национальной гордости: «Властвуйте, — пусть ненавидят меня! За кровь небольшую // Можете взять вы весь мир: из гимнасиев встретится с вами // Греческих юношей рать, изнеженных в праздной палестре, // Еле несущих копье, и толпы разноязычных // Варваров; звуков трубы и собственных воинов шума // Вынесть не смогут они».108
Цезарь также предупредил солдат о последствиях возможного поражения: «Ныне награда войны или казнь за нее перед нами! // Вообразите для Цезаря все и кресты и оковы, // Эту на рострах главу и груду растерзанных членов, // Новый в Ограде109 погром, на запертом Марсовом поле».110 Таким образом, поражение будет значить верную смерть, тогда как победа покончит со всеми лишениями: «Нечего лагерь щадить: там вы стан разобьете, откуда // Недруг на гибель идет».111
В этой битве отличился Марк Антоний, командующий левым флангом Цезаря. К удивлению Помпея, его армия отступила и была разбита. Он больше никогда не смог оправиться от этого удара. После поражения Помпей горько жаловался, что он был предан конницей, которая по численности почти вдвое превышала войска Цезаря. Большую часть этого элитного отряда составляла избалованная «золотая молодежь», которая шла в бой столь же легкомысленно, как на обычную лисью охоту. Цезарь прекрасно понимал психологию этих развращенных сынков аристократов. Он тщательно организовал против них засаду из отряда пехоты, внезапно атаковавшей вражескую конницу, застав ее врасплох.
Цезарь посоветовал своим солдатам бить в лица молодых патрициев, так как те были крайне озабочены своей внешностью, и больше всего боялись обезобразить лицо. Совет пришелся к месту: конница Помпея запаниковала и побежала. Ее отступление решило исход битвы. Поняв, что поражение неизбежно, Помпей бежал в Египет, где был немедленно убит по приказу тамошних правителей. Египтяне стремились выслужиться перед победителем и не дать римской армии повода войти в Египет, который формально оставался независимым государством.
Диктатура Цезаря
Весть о победе Цезаря достигла Рима в октябре, но в столицу он вернулся только через девять месяцев. Все это время он провел на Востоке, главным образом в Египте, где, как известно у него была любовная связь с Клеопатрой, в итоге подарившей ему сына. Цезарь также подавил опасное восстание. Кроме того, он совершил успешный поход против Парфянского царства (именно тогда он произнес знаменитую фразу: «Veni, vidi, vici» — «Пришел, увидел, победил!»
Естественно, все это время он нисколько не забывал о личном обогащении. Восточные завоевания принесли ему огромную добычу, с помощью которой он смог пополнить опустевшую римскую казну. Наличные деньги пришлись как никогда кстати, так как солдаты готовы были взбунтоваться, не получая обещанной оплаты, и именно из-за угрозы мятежа он и поспешил вернуться в Италию. Марк Антоний, оставленный египетским наместником, не сумел преумножить славу своего господина — вероятно, из-за того, что все его внимание было занято очаровательной египетской хозяйкой.
Обезопасив Восток, Цезарь вернулся в Рим с величественным триумфом, который еще сильнее упрочил его положение и ослабил недругов. В течение четырех августовских дней 46 г. до н. э. по улицам Рима шествовали огромные процессии, несшие статуи Клеопатры и Венеры (которая считалась прародительницей Цезаря). После этих шествий начались игры, включая травлю диких зверей, в числе которых, впервые в Риме, были жирафы. Завершил празднества роскошный пир. В отсутствие Цезаря столица ощущала нехватку зерна, и теперь огромные народные массы обратились к Цезарю, прося хлеба. Все это должно было стоить победителю Помпея целого состояния.
Цезарь продолжал расходовать золото на подкуп противников, но при этом он никогда не забывал и о легионах, которые всегда были под рукой для устрашения недовольных. Став хозяином Рима, Цезарь не стал преследовать аристократическую партию. Его шаги были на удивление умеренны — и потому не оправдали надежд популяров.
В отличие от аристократа Суллы, и вопреки всем ожиданиям, Цезарь не стал развязывать террор, убивать и грабить своих врагов. В тех случаях, когда он все же отбирал собственность, он продавал ее с аукциона. Все это делалось, чтобы переманить на свою сторону богатых и сильных, и нейтрализовать республиканцев. Именно поэтому он так быстро «простил» многих былых противников.
Хотя Цезарь изображал из себя «друга народа» и опирался на массы в борьбе против сената и аристократов, он ничуть не стремился отдавать власть люмпен-пролетариату. Именно поэтому, едва лишь укрепившись в Риме, он поспешил примириться с оптиматами. Такой поступок неприятно поразил его уличных сторонников, которые надеялись всласть погромить и пограбить дома богачей после возвращения Цезаря. Взамен того на улицах воцарился строгий порядок.
Как только Цезарь крепко взял власть в свои руки, он принял меры к ослаблению народной партии, запретив все клубы и общества, если те не имели разрешения (мало кому удавалось его получить). Диктатор не собирался делить власть ни с аристократической, ни с народной партиями. С какой стати? Новый правитель Рима должен был быть надклассовой силой, представляя «государство» как таковое. Такова общая черта всех цезаристских и бонапартистских режимов.
Он резко ограничил число людей, имеющих право на бесплатный хлеб. Другое дело — армия. Выплаты армии были колоссальны, так как каждый солдат должен был получить зарплату, равную пожизненной, и, кроме того, земельный надел. Недовольство солдат уже привело к нескольким мятежам. Цезарь не мог экономить на солдатах.
Когда некоторые из солдат возмутились пышным зрелищем, учиненным Цезарем по возвращении из Египта, их немедля казнили, а головы выставили на Форуме, «чтобы подбодрить других». Но ему приходилось заботиться о сохранении и усилении своей главной силы — армии. Потому он расходовал деньги, награбленные на Востоке, чтобы платить солдатам, а также создал новые колонии, раздавая землю ветеранам (очень важная цель для римского солдата).
В какой-то степени это нужно было, чтобы переселить из столицы часть римской бедноты. Такие меры несомненно пользовались популярностью, напоминая массам о том, что «Цезарь на стороне народа» и пробуждая воспоминания о временах Гракхов и популяров прошлого. Однако эти шаги не имели ничего общего с революционной аграрной политикой Гракхов. Многие были разочарованы тем, что новые земли распределялись не в Италии, а в провинциях. Цезарь показал, что он готов удовлетворить определенные требования масс, но не собирается экспроприировать крупные рабовладельческие латифундии Италии.
Волнения, революции и гражданские войны предыдущей половины века привели к тому, что многие римляне и италийцы практически обнищали, угодив в долговую кабалу алчных ростовщиков. Цезарь понимал всю социальную опасность такого положения дел. Но что он мог поделать? Перед ним встала дилемма, хорошо очерченная историком Майклом Грантом:
«Еще в 80-х годах политические деятели пытались осуществить ряд мер для спасения бесчисленных должников, которых суровые законы делали полностью беззащитными перед ростовщиками. Но эти усилия были ограниченны, поскольку отсутствовали гарантии, что предпринятые действия не превратятся в атаку на частную собственность и на систему кредитования как таковую, чего небезосновательно опасались собственники по всей стране.
Проблема долгов, которая в свое время вынесла на гребень политической жизни Катилину, вновь обрела остроту. Теперь, в условиях гражданской войны, разразился катастрофический кризис кредита. Одной из главных проблем, по-видимому, стала нехватка наличных денег. Огромное количество наличности было израсходовано на содержание армий сражающихся, а из-за общей нестабильности обстановки большие денежные суммы просто исчезли из обращения. В обращении осталось настолько мало денег, что их уже не хватало на возмещение долгов. Кредиторы делали отчаянные попытки вернуть выданные ссуды, но несостоятельным должникам лишь оставалось в уплату долга отдать всю свою собственность. Кредиторы были в этом не заинтересованы, поскольку цены на недвижимость и землю резко падали. А сами законы, направленные против должников, не менялись с незапамятных времен и отличались дикостью и жестокостью.
Цезарь осуществил меры, которые препятствовали накоплению наличных денег, но в то же самое время обязывали кредиторов принимать землю и товары в уплату долга. Чтобы избежать споров относительно стоимости собственности, ее полагалось оценивать по довоенным ценам, устанавливаемым специальными официальными оценщиками, которых назначал городской претор. Процент, уже выплаченный в форме наличных денег или ценных бумаг, следовало вычитать из общей суммы долга. В Риме процентная ставка обычно составляла около 4 процентов. Повальное взяточничество при выборах привело к росту ставки до 8 процентов, а к моменту описываемых событий она приблизилась к 12 процентам. Поэтому принятое решение об учете процента явилось бы существенной уступкой. Однако, вполне вероятно, тогда эти меры еще не были проведены в жизнь, поскольку Цезарь в течение всех оставшихся ему лет продолжал предпринимать различные шаги для предотвращения финансового кризиса, что создает трудности при выяснении хронологии. Но уже в 49 году до н. э. стало очевидным, каким образом Цезарь собирался решать эту проблему.
Его намерения вызывали большую тревогу среди представителей более состоятельных классов. Один из оставшихся в Италии экс-консулов, Сервий Сульпиций Руф, писал Цицерону, что, какая бы сторона ни победила, финансовые трудности неизбежно повлекут за собой нарушение права частной собственности. Отмена долгов была наиболее популярным пунктом в антиконсервативной программе, приверженцем которой долгое время объявлял себя Цезарь. Римляне верили, что он поможет стать на ноги тем должникам, которые в гражданской войне выступят на его стороне. Но, так как среди его сторонников было много финансистов, возможно, он и не давал никаких обещаний на этот счет. А если и давал, то теперь поведение Цезаря противоречило его словам, и он явно не собирался в революционном порядке отменять долги, чего многие так опасались. Фактически закон Цезаря о должниках и кредиторах означал, что кредиторы теряют в среднем одну четверть сумм, на которые они имели ранее законное право. Разумеется, сумма складывалась весьма значительная, но кредиторы не выражали сильного недовольства — эти потери были значительно меньше тех, которых они опасались. Кроме того, Цезарь настоял на принятии закона о том, что раб не может получать вознаграждение за донос на хозяина. Успокоенные финансисты быстро поняли, что предоставлять кредиты по-прежнему выгодно, и активно продолжали эту деятельность».112
Для умиротворения бедноты Цезарь несколько смягчил долговые законы, заморозив процентные выплаты на двенадцать месяцев. Однако он не мог списать все долги — одно из главных требований его сторонников. В числе причин было то, что сам Цезарь был крупным кредитором: ему задолжали многие люди, которым он «помогал», ссужая большие деньги в прошлом. Пришло время потребовать с них вернуть полученное. Отмена долгов для Цезаря была равносильна ампутации руки. Ни один из его шагов не был направлен на ущемление собственности рабовладельцев.
Тому есть солидные основания. История знает множество революций, и перемены, произведенные Цезарем, тоже принято именовать «римской революцией». Но фактически это была революция, затрагивающая только надстройку, то есть политическая революция. Она нисколько не изменила существовавшие в обществе социальные отношения. Рабовладельческая аристократия так и осталась правящим классом и продолжала владеть всей экономикой, как и прежде. Но теперь она потеряла контроль над государственным аппаратом и была вынуждена, пусть и с неохотой, отдать политическую власть «твердой руке» в лице Цезаря.
Аристократия пришлось делиться награбленным с бандой военных авантюристов, которые взамен защищали их от масс и поддерживали порядок — правда, взимая за свои услуги солидный барыш. Как говорил некогда Троцкий, бонапартистские и фашистские режимы сходны с легендарным Стариком Моря, который сидит на плечах правящего класса, указывая тому путь к спасению, но в то же время оскорбляет его, колотит пятками по боками и плюет на плешь.
Смерть республики
Цезарь балансировал между классами, то обращаясь к бедным против богатых, то опираясь на богатых, чтобы подавить бедных. Он использовал популяров, чтобы победить аристократию, а затем объединился с Партией порядка для подавления своих бывших сторонников. Но при этом он все время концентрировал власть в своих руках. Цезарь поддерживал видимость сохранения республики, и сенат был готов облизывать за это его сандалии.
Когда он впервые вошел в Рим, перейдя Рубикон, сенат предоставил ему диктаторские полномочия, но только на одиннадцать дней (достаточное время, чтобы сфальсифицировать консульские выборы). Позже он сделал его диктатором на срок четырех месяцев, одного года, десяти лет, и, наконец, на всю жизнь. Его триумфальное возвращение из Египта дало этому благородному собранию прекрасную возможность проявить свое раболепие перед армейским сапогом. Сенат осыпал его почестями. Он даже проголосовал за то, чтобы возвести в самом сердце Рима статую Цезаря на колеснице с глобусом в руке и надписью, именующей его полубогом.
Восстание в Испании, возглавленное сыновьями Помпея, было быстро подавлено, и когда весть о победе Цезаря достигла Рима, то сенат, пресмыкаясь перед своим новым хозяином, даровал ему титул «Освободителя» — звучит более чем иронично, и даже воздвиг в его честь святилище Cвободы. Позже он получил и другие беспрецедентные почести: сакральные жертвы в день его рождения (прежде прерогатива царей в греческой мифологии), ежегодные молитвы за его здравие и благополучие и так далее. Пока Сенат осыпал Цезаря почестями и пел ему дифирамбы, он с каждым днем укреплял свою власть и ковал новые цепи для республики.
Партия Цезаря теперь партия порядка — его сандалии прочно стоят на шее сената и римского народа. Также это партия войны. Отчасти это должно было добавить Цезарю величия. Но он преследовал и более практическую цель: это был единственный способ пополнить казну государства. Экономический кризис в Риме был беспрецедентным. После долгих лет революций, переворотов и гражданской войны казна была пуста. Тем не менее, Цезарь распределил земли между своими ветеранами и начал строительство целого ряда общественных зданий и сооружений: библиотек, каналов, даже новой гавани. Чтобы заплатить за это, требовались все новые и новые войны, вроде войны с Парфией.
В процессе своей внутренней революции, Цезарь удвоил число сенаторов, чтобы вознаградить свою собственную партию и подрывать старую аристократию. Но это не увеличило влияние сената, напротив — показало его ненужность. Теперь все решал Цезарь и его окружение. С его точки зрения, было естественно добавить к этим говорящим головам лояльных ему лично людей, и тем самым, ослабить еще больше старую аристократическую партию. Из кого же состояла партия Цезаря, лидеры которой пополнили Сенат? Сайм пишет:
«Многие из сторонников Цезаря были откровенными авантюристами, кто-то рвался к богатству и карьере, другие шли за революцией… Последователи Цезаря были неоднородными по своему составу — их ядро составляла небольшая группа представителей высшего класса, не просто нобилей, а патрициев; на периферии было много прекрасных римских рыцарей, «цветов Италии».113
Эти «прекрасные рыцари» (всадники) были римские капиталисты, как указывает и Майкл Грант:
«Большинство новых членов сената были итальянскими банкирами, промышленниками и землевладельцами… Цезарь ввел в сенат тех, кто мог предложить большие суммы, а также был его сторонником.
Не было ничего нового в том, чтобы назначать своих ставленников на высшие должности, но Цезарь делал это совершенно открыто, и действительно, в конце концов законодательно ему было дано право «рекомендовать» большую часть от общего количества кандидатов на высшие должности, причем это право предоставлялось на много лет вперед… Намерение диктатора, однако, состояло в том, чтобы использовать все возможности консульского статуса, проводя на эти должности лояльных ему лиц».
Огромный рост числа сенаторов был, следовательно, не только средством для растворения власти сената и усиления Цезаря; это было хорошо и для для его бизнеса. Естественно, что новые сенаторы (многие из них были провинциалами из Галлии и Испании, не имеющими связей со старой сенатской аристократией) были столь благодарны своему благодетелю, что им захотелось выразить свою признательность, пополняя его казну большими денежными суммами.
Убийство Цезаря
Цезарь объявил реформу календаря, который теперь насчитывал 365 дней.114 Он стал основой нашего современного календаря. За этим стояла определенная идея. Цезарь хотел избавиться от хаоса на всех уровнях, даже в календаре. Естественно, что один из месяцев был назван в честь Цезаря (июль). Он появился облаченным в пурпурную тогу — цвет, традиционно связанный с царской властью. Цезарь объявил себя пожизненным диктатором, хотя исходно был назначен на временный срок. Наконец, он сошелся с египетской царицей Клеопатрой, хотя все еще был женат на Кальпурнии, своей третьей жене. Иначе говоря, он вел себя как типичный восточный деспот.
Естественно, что поговаривали об объявлении Цезаря царем. Вполне вероятно, что эти слухи распространяли его враги. Царский титул был ненавистен в Риме с тех далеких дней, когда Тарквинии были изгнаны из города. Цезарь, который в реальности использовал почти все царские атрибуты, очень хорошо видел риски, связанные с принятием царского титула. Однажды верный сторонник и друг Цезаря Марк Антоний публично предложил ему золотую корону. Цезарь устроил настоящее шоу, с негодованием отбросив ее далеко в сторону.
Он хотел доказать людям, что не имеет царских амбиций. И зачем ему это? Человеку, в руках которого реальная власть, не нужны ее показные атрибуты. Наоборот, Цезарь был вполне доволен тем, что ничего не решающий сенат остается формально носителем высшей власти. Цезарь не уничтожил республику, а лишь свел ее к чистой формальности, выхолостив из нее реальное содержание. Это очень хорошо понимал Гегель:
«Конечно, он выступил против республики, но в сущности лишь против ее тени, потому что все то, что еще оставалось от республики, было бессильно. Помпеи и все те, которые стояли на стороне сената, отстаивали свои dignitas, auctoritas,115 личное господство как мощь республики, и посредственность, нуждавшаяся в защите, прикрывалась этой этикеткой. Цезарь положил конец этому пустому формализму, сделался властителем и путем насилия отстоял сплоченность римского мира от партикуляризма».116
Несгибаемым республиканцам оставалось лишь втихаря проклинать Цезаря, глядя на неумолимое снижение власти сената. Консервативные республиканцы, такие как Цицерон, теперь довольствовались тем, что перешептывались по углам, да писали друг другу саркастические письма:
«Во всяком случае тебя не было на поле, когда во втором часу, после открытия квесторских комиций, было поставлено кресло Квинта Максима, которого они называли консулом; после извещения о его смерти кресло было удалено. А тот, кто совершил гадание для трибутских комиций, руководил центуриатскими; в седьмом часу он объявил о выборе консула на срок до январских календ, которые должны были наступить на другой день утром. Таким образом, знай, что при консуле Канинии никто не позавтракал. Однако при этом консуле не сделано ничего дурного: ведь он проявил изумительную бдительность, раз он за все свое консульство не видел сна.
Это кажется тебе смешным, ведь тебя здесь нет; если бы ты видел это, ты не сдержал бы слез. Что, если я напишу о прочем? Ведь оно неисчислимо и в том же роде…»117
Таким образом, власть раскинувшегося на значительную часть мира Рима теперь принадлежала одному человеку. Крайнее республиканское крыло аристократической партии бескомпромиссно противостояло Цезарю, чьи связи с Клеопатрой, восточными деспотами и царями делали его намерения еще более подозрительными. Аристократы скрывали свое возмущение тем, что Цезарь привел галлов в Сенат, опасаясь шпионов Цезаря, которые были повсюду. Враги Цезаря вынуждены были лишь обороняться.
В то время как большинство сенаторов трусливо прислуживали человеку, которого они ненавидели и презирали так же сильно, как и боялись, фракция крайних республиканцев, чувствуя, как последние остатки власти неумолимо ускользают из их рук, прибегает к отчаянным мерам. Они решили избавиться от Цезаря. Решающий шаг был сделан летом 44 г. до н. э., когда сенат наконец проголосовал за то, чтобы сделать Цезаря пожизненным диктатором. Это был последний акт самоуничижения для жалких и безвольных людей. Но для немногих это стало последней каплей.
Заговор был организован небольшой группой сенаторов во главе с Брутом и Кассием, которые были по-детски наивны в своей простоте: проблема в Цезаре, и решение проблемы — его устранение. После того, как Цезарь будет убит, республика будет восстановлена, и все будет как прежде. Цицерон, Брут и Кассий считали, что триумф Цезаря просто случайность, вызванная масштабом его личности.
Главным организатором заговора был Гай Кассий Лонгин, энергичный практик, перешедший на сторону Цезаря после битвы при Фарсале, но полагавший, очевидно, что он не был в достаточной степени вознагражден за свои услуги. Он завоевал доверие своего сводного брата Марка Брута. Цезарь был сильно привязан к Марку, так что многие считали его незаконнорожденным сыном Цезаря. Брута принято описывать как благородного человека («благороднейший из римлян», — писал Шекспир). Но он защищал те же интересы того же самого класса, что и остальные: интересы старого аристократического сенаторского класса.
Заговорщики считали, что стоит убить одного человека и республика будет восстановлена ipso facto.118 Одержимые этой иллюзией, они организовали убийство человека, которого считали ответственным за все свои беды. Результат хорошо известен. 15-ого марта, всего за несколько дней до своего отъезда в действующую армию на Восток, Цезарь был убит по пути в сенат. Большая загадка: почему у него не было никакой реальной защиты. Он даже отказался от личных телохранителей испанцев. Было ли это избытком уверенности? Или это следствие его приверженности фаталистической стоической философии, как писал Шекспир:
«Трус много раз до смерти умирает;
Храбрец вкушает лишь однажды смерть.
Из всех чудес, известных мне, считаю
Я самым странным смертный страх людей;
Ведь знают же: конец необходимый
Придет в свой час».119
В любом случае, заговорщики не испытали сложностей. Они окружили Цезаря, нанеся 23 удара кинжалами, прежде чем он закрыл свое лицо плащом и рухнул. По словам Светония, когда Брут нанес удар, Цезарь воскликнул «И ты, сын мой?». Заговор достиг своей ближайшей цели. Но это убийство не могло спасти Республику. Сразу же стало ясно, что римское государство уже перестроено на новый лад, и невозможно перевести часы назад.
Заговорщики полагали, что, устранив одного человека, они могут изменить систему. Но результаты их действий были диаметрально противоположны их намерениям. Они не восстановили республику, а возвестили о рождении империи. Их беда, то что они исходили из ложной посылки. Невозможно оживить смердящий труп. Римская республика была теперь мертва из-за того, что давно исчезли экономические и классовые отношения, лежавшие в ее основании. Цезарю было достаточно лишь подтолкнуть ее — и она рухнула. Все, что от нее осталось — пустая шелуха, которую унес первый порыв ветра.
Тактика заговорщиков сама по себе отражала их фатальную слабость. Индивидуальный терроризм всегда является выражением слабости. Убийцы считали, что их смелый шаг навстречу «свободе» поднимет старую аристократическую партию на борьбу за свои интересы. Но эта партия уже лежала в руинах, расколотая и деморализованная. Она не готова была постоять за себя. Майкл Грант говорит:
«Как бы то ни было, заговорщики совершенно неверно оценили возможные последствия своих действий, полагая, что, едва дело будет сделано, Республика автоматически восстановится, причем в своей изначальной классической форме. Фактически знать в течение последних десятилетий теряла бразды правления, и теперь этот процесс был уже необратим».120
Второй триумвират
В решающий момент Брут и остальные заговорщики оказались в изоляции и быстро потерпели поражение. Своими действиями они не только не спасли республику, но и ускорили ее крах. Лидером цезаристской партии сперва был Марк Антоний, который воспользовался возмущением толпы в момент убийства Цезаря для укрепления свои позиции. Однако, оказавшись в сложной ситуации, он вынужден был маневрировать и искать компромисс с Брутом и Кассием, которым было разрешено покинуть Рим и укрепиться на Востоке.
Антоний был жаден до власти и никогда не упускал возможности набить свои карманы. Сайм пишет: «В обличительной речи прозвучало, что консул Антоний присвоил 700 миллионов сестерциев, хранившихся в храме Опы».121
Положение Антония, впрочем, не было устойчивым, так как в руководстве цезаристской партии у него был опасный конкурент, холодный и расчетливый молодой человек по имени Гай Октавий, внучатый племянник Цезаря. Поскольку Цезарь не имел детей от Кальпурнии, то он был его законным наследником. Столкновение между ними было неизбежно, но в ноябре 43 г. до н. э. они сумели достигнуть компромисса и образовали Второй триумвират вместе с Лепидом.
В 42 г. до н. э. они перешли в наступление, нанеся поражение Бруту и Кассию в битве при Филиппах. В сентябре 40 г. до н. э. в Бриндизи триумвиры решили разделить республику на сферы влияния. Октавиан взял под свой контроль Запад, Антоний — Восток, Лепиду же остались Испания и Африка. Но это не могло длиться долго. Октавиан, с его безграничным честолюбием, стал называть себя Divi Filius («Сын бога»). Это было прямым подражанием Цезарю, обожествленному в качестве Divus Iulius («Божественного Юлия»). Позже он стал именовать себя Imperator Caesar.122
Приемы цезаристов описывает Рональд Сайм:
«Антоний и его коллеги делали все возможное, чтобы тем или иным путем обеспечить себе безопасность и власть. Но то, что генералы обратились к своей армии с просьбой защитить их жизнь или честь, сделало их беспомощными марионетками в руках легионов. Пролетариат Италии, который так долго эксплуатировали и угнетали, захватил то, что считал своим по праву. Социальная революция теперь осуществлялась в два этапа — сперва надо было найти деньги на войну, затем наградить легионы после победы.
Война и связанная с этим угроза налогообложения или конфискации загоняет деньги под землю. Их надо выманить наружу. Капитал можно привлечь лишь соблазном хороших вложений. Поэтому лидеры цезаристской партиии захватывали дома и имения и выставляли их на продажу. Их собственные сторонники, хитрые нейтралы и вольноотпущенники–торговцы получили за свои деньги надежную земельную собственность. Вольноотпущенники, как обычно, жирели на крови граждан.
Проскрипции стали выступать как своеобразный способ взимания налогов на капитал. Как и во время проскрипций Суллы, нобили и политические противники возглавили список: основная его часть состоит, впрочем, из имен малоизвестных сенаторов или римских всадников. Нобили — не обязательно самые богатые граждане: владельцы собственности, независимо от их социального статуса, были настоящими врагами триумвирата. В согласии друг с другом, сенаторы и дельцы оставили в силе существующий порядок и предотвратили восстановление старых римских традиций через более справедливое распределения земельной собственности в Италии. Теперь они стали товарищами по несчастью. Бенефициарам Суллы пришел конец. Триумвиры объявили очередную вендетту богатым, будь то блеклые, не активные сенаторы или мирные всадники, осторожно избегавшие участия в римской политике. Никто не мог спастись».123
Подлинная классовая опора у Октавиана была та же, что и у Цезаря: крупные банкиры и капиталисты Рима. Октавиан не только имел возможность грабить государственную казну, он также опирался на самых богатых людей в Риме:
«Украденных государственных средств было недостаточно. Октавиан также получил поддержку частных инвесторов, в том числе некоторых из богатейших банкиров Рима. Аттик, отказавшийся финансировать военную кампанию Освободителей,124 не заинтересовался этим предприятием. Но неважно: наследник Цезаря почти сразу же обрел финансовых советников и политических агентов диктатора. Среди первых, еще в апреле, цезаристы обратились к миллионеру Бальбусу. Бальбус мог дать им хороший совет, и держал язык за зубами. Ни одна запись не выдает его заслуг перед наследником Цезаря. После ноября он исчезает из поля зрения историков на четыре года: то, как он вернулся, указывает на то, что он навряд ли был неактивен. Цезарист Рабирий Постум также оказался на виду, доброжелательный и открытый к участию в любых аферах. Наряду с Матием и Сазерной он нашел деньги на праздничные игры в июле».125
Раньше или позже, но Октавиан неизбежно должен был столкнуться с Марком Антонием за обладание огромными богатствами Египта и Востока лоб в лоб. Сперва Октавиан избавился от Лепида, который был слабым звеном триумвирата, и тяготел к Марку Антонию. Затем он начал маневрировать, пытаясь настроить римлян против Марка Антония. Для дискредитации Антония он использовал его отношения с Клеопатрой, незаконно раздобыв в июле 32 г. до н. э. завещание последнего, он открыл его содержание римской публике: согласно завещанию, существенная часть наследства Антония предназначалась для детей Клеопатры, также имелось указание о том, что его тело следует отвезти в Александрию для захоронения.
Эти откровения вызвали негодование в Риме, создав психологические предпосылки для начала войны. В морском сражении при Акциуме (сентябрь 31 г. до н. э., Греция), силы Октавиана нанесли решительное поражение флотам Антония и Клеопатры. Сражение было отчасти фарсом из-за внезапного бегства Клеопатры, а вслед за ней — и Антония, в Египет, еще в начальной стадии битвы. Там Антоний и Клеопатра покончили с собой. Теперь вся власть была сосредоточена в руках одного человека — Октавиана, который вошел в историю под именем Августа — первого императора Рима.
Естественным результатом развития цезаризма стала империя, где бесследно сгинули все следы старой республики. Лицемерный Август оказывал знаки уважения Сенату и республиканской форме правления, но все понимали, что это лишь слова. Его последователи не утруждали себя даже этим. Цезарь шокировал римлян, приведя в Сенат галлов. Император Калигула сделал сенатором коня, и все признали, что это очень хорошо отражает реальную ситуацию.
Что такое цезаризм?
«Два огромных лагеря непримиримо противопоставлены друг другу. Победить парламентским путем ни один не может. Ни один из них к тому же не подчинился бы добровольно неблагоприятному для него решению. Такое расколотое состояние общества предвещает гражданскую войну. Первые ее молнии уже пронзили страну. Опасность гражданской войны порождает у правящих классов потребность в арбитре — повелителе, цезаре. Это и есть функция бонапартизма».126
В конечном счете, ход истории определяется развитием производительных сил и динамикой порожденных ими классовых отношений. Производительные силы и есть тот фундамент, на который опирается надстройка — сложная структура из правовых, политических, философских, культурных, религиозных и прочих отношений. Однако все эти элементы связаны между собой весьма запутанным и противоречивым образом.
Марксизм видит в экономике решающий фактор общественного развития. Однако надстройка, которая вырастает на экономической почве, со временем перерастает свою основу и вступает с ней в противоречие. Постепенно изменение производства внутри старого общества дает начало противоречию, разрешить которое можно, только изменив всю надстройку, подчинив ее новым условиям, и тем самым полностью перестроив общество на основе нового способа производства.
В этом состоит подлинная сущность социальной революции. Однако существуют и другие виды революций, которые не вызывают коренных перемен в экономических отношениях, а только изменяют надстройки и политические отношения между различными слоями правящего класса. Такие революции мы называем политическими революциями. Именно такая революция положила конец Римской республике и провозгласила Империю.
В условиях, когда классовая борьба заходит в тупик, верх берет государство («группы вооруженных людей»), всегда готовое подмять под себя общество и получить определенную независимость. Правящий класс может потерять контроль над своим собственным государством. Формалисты не в состоянии уяснить такого диалектического противоречия, но история дает нам много примеров такого рода.
Государство
Разберемся с вопросом, что же такое государство. Энгельс объяснял, что государство возникло для того, чтобы препятствовать разрушению общества в ходе классовой борьбы. Государство «регулирует» классовую борьбу, и однажды, при некоторых условиях и в определенных рамках, получает некоторую независимость и собственную логику развития. При определенных условиях это стремление государства к независимости может принять крайнюю форму.
В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс пишет:
«А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство».127
Марксизм объясняет, что государство — орудие для господства одного класса над другим. Оно состоит из групп вооруженных людей: армии, полиции и бюрократии. В этом суть марксистского представления о государстве. Однако это общее определение ни в коем случае не исчерпывает вопроса. Какой класс был правящим при Луи Наполеоне? Легко ответить: буржуазия. Однако же в «18 брюмера»128 Маркс описывает, как пьяная солдатня Луи Наполеона стреляла в парижских буржуа. Кажется, что здесь есть противоречие, но противоречие здесь не абсурд, а диалектика. Государство Наполеона III, как и Цезаря, состояло из бандитов а авантюристов, которые защищали свои собственные интересы, грабя государство и буржуазию, которых они представляли.
В другом месте Энгельс пишет:
«Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого-могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Так, античное государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для подавления рабов, феодальное государство — органом дворянства для подавления крепостных и зависимых крестьян, а современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними».129
И еще:
«Связующей силой цивилизованного общества служит государство, которое во все типичные периоды является государством исключительно господствующего класса и во всех случаях остается по существу машиной для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса».130
Энгельс использует крайне осторожный и выверенный язык. В обычное время государство по общему правилу подчинено правящему классу. Однако иногда возникают ситуации — исключительные и нетипичные — когда это положение неприменимо. Тед Грант прекрасно осветил этот вопрос в своей работе «Анти-Клифф»:
«Давайте возьмем историю Франции, как случай, исключительно богатый примерами. Буржуазная революция произошла в 1789 году. В 1793 году якобинцы полностью захватили власть.
Как указывали Маркс и Энгельс, они вышли за рамки буржуазных отношений и тем самым выполнили важную историческую задачу, выполнив за несколько месяцев то, на что буржуазии понадобились бы десятилетия или целые поколения — полностью очистили Францию от следов феодализма. Однако этот режим оставался укоренившимся в буржуазных формах собственности. За этим последовал Французский Термидор и правление Директории, за которым следует классическая диктатура Наполеона Бонапарта. Наполеон вновь ввел многие феодальные формы, сам короновал себя императором и сконцентрировал верховную власть в своих руках. Но мы все же называем этот режим буржуазным. С реставрацией Людовика ХVIII режим все еще оставался капиталистическим… а тогда мы имели не одну, а две революции — 1830 и 1848. Эти революции имели важные социальные последствия. Они привели к значительным изменениям даже в персонале самого государства. Однако мы характеризуем их обе как буржуазные революции, в которых не происходило изменений класса, стоящего у власти.
Пойдем дальше. После Парижской коммуны 1871 года и вызванного ею потрясения общественных отношений мы имели организацию Третьей Республики с буржуазной демократией, которая продолжалась в течение десятилетий. Затем пришел Петэн, затем сталинистско-голлистский режим, и теперь правительство Квиэллэ. Проанализируем удивительное разнообразие этих режимов. Для немарксиста казалось бы абсурдным относить к одной категории, скажем, режим Робеспьера и Петена. Однако марксисты определяют их как принципиально одинаковые — буржуазные режимы. Что является критерием? Только одно: форма собственности, частной собственности на средства производства.
Сравним, аналогично этому, режим нацизма в Германии с режимом Британской социал-демократии. Они настолько принципиально различаются по надстройке, что многие теоретики не марксистской и экс-марксистской школы нашли новую классовую структуру и совершенно новую общественную систему. Почему мы говорим, что они представляют один и тот же класс и один и тот же режим? Несмотря на разницу в надстройке, экономический базис данных обществ остается одинаковым».131
Тупик в отношениях между классами
В период упадка Римской республики, который мы здесь описываем, классовая борьба вышла за все мыслимые пределы. Внешние и гражданские войны, восстания рабов, непрерывная борьба за власть между различными фракциями правящего класса привели к полному истощению борющихся классов. Идеалист Гегель в свое время уже подчеркивал это:
«С этих пор внутренняя противоположность Рима вновь проявляется в иной форме, и та эпоха, которою оканчивается второй период, является вторичным примирением противоположности. Мы уже отметили противоположность в борьбе патрициев с плебеями: теперь она обнаруживается в форме борьбы частных интересов против патриотизма, и преданность государству уже не поддерживает необходимого равновесия, нарушаемого этою противоположностью. Наоборот, теперь, наряду с войнами, которые ведутся для завоеваний, для добычи и славы, представляется ужасное зрелище гражданских смут в Риме и междоусобных войн».132
В конечном счете, цезаризм (и его современный эквивалент, бонапартизм) — это власть шпаги. Он возникает в определенные моменты истории, когда классовая борьба заходит в тупик, а государственный аппарат (главным образом, армия) поднимается над обществом и требует для себя определенной независимости. Во главе этой власти встает «сильная личность», или диктатор. В эпоху распада республики интенсивная классовая борьба уже породила подобный тип людей: Мария и Суллу, а позднее Помпея и Цезаря.
Именно на этой почве зародился и расцвел цезаризм. Троцкий объяснял:
«Цезаризм, или его буржуазная форма, бонапартизм, выступает на сцену в те моменты истории, когда острая борьба двух лагерей как бы поднимает государственную власть над нацией и обеспечивает ей, на вид, полную независимость от классов, а на самом деле — лишь необходимую свободу для защиты привилегированных».133
Классовая борьба в Риме зашла в тупик. Борющиеся классы столкнулись в смертельной схватке за контроль над государством. Конкурирующие партии сменяли друг друга, и в собственных интересах не стеснялись отправлять на тот свет своих политических противников. Внутреннее единство державы было подорвано, так как никто не признавал власти противной стороны или законности ее декретов. Гегель отмечал:
«Господство стало зависеть от народа, который теперь оказывался лишь чернью, которую приходилось кормить зерном, доставляемым из римских провинций. Нужно прочитать у Цицерона, как все государственные дела шумно, с оружием в руках, решались, с одной стороны, богатыми и могущественными знатными людьми, а с другой стороны — сбродом. Римские граждане присоединяются к индивидуумам, которые льстят им, а затем образуют партии, чтобы добиться господства в Риме».134
Подлинной причиной тупика была неспособность плебеев объединиться с рабами в общей борьбе против олигархии. Римский люмпен-пролетариат также жил за счет эксплуатации рабов и грабежа колоний. Такая обстановка обрекала римскую революцию на поражение. Противоборствующие классы сражались друг с другом, но ни один не мог одержать окончательной победы. В подобной ситуации само государство берет общество под контроль, навязывая ему свое безраздельное правление, как противовес гибели социума в междоусобных конфликтах.
Цезаризм, абсолютизм, бонапартизм
В «Коммунистическом Манифесте»135 Маркс и Энгельс указывали, что классовая борьба, в конце концов, заканчивается либо полной победой одной из сторон, либо общим крушением борющихся классов. Судьба римского общества — самый яркий тому пример. Расцвет рабовладения уничтожил свободное крестьянство, которое служило основой республики. С исчезновением свободного крестьянства государству пришлось опираться на наемную армию, чтобы иметь возможность продолжать войны. Результатом этого стало то, что мы называем цезаризмом.
История знает много других случаев, когда различные части правящего класса боролись между собой, в результате чего государство вставало над обществом. Во время войн Алой и Белой розы в средневековой Англии две правящие баронские династии (Ланкастеры и Йорки) почти истребили друг друга. Были моменты, когда большинство правящего класса сидело в темницах или лежало в могилах. Тогда трон делили между собою случайные авантюристы. Наконец, к власти пришла новая династия, Тюдоры, которая смогла уравновесить интересы буржуазии (Лондона) и различных фракций баронов, установив абсолютистский режим. Подобные процессы происходили и в других странах.
Какова классовая природа абсолютизма? Абсолютные монархи, пытаясь стать властью, стоящей над обществом, все более и более отчуждая его от власти, опирались на нарождающуюся буржуазию с целью сокрушить феодальную аристократию. Тем не менее, классовая природа режима оставалась феодальной. Она определялась существующими имущественными отношениями, а не политической расстановкой правительства.
Римские императоры поднялись над обществом и беспощадно угнетали правящий класс, рабовладельцев. «Избранные» преторианской гвардией императоры облагали их налогами, арестовывали, мучили и казнили. И все же этот факт ни на йоту не изменял классовую природу римского государства как рабовладельческого. Рабовладельцы оставались правящим классом даже под железной пятой цезаризма.
Как мы уже отмечали, Цезарь и его клика ограбили олигархов-рабовладельцев и экспроприировали их состояния. Тем не менее, они поддерживали рабовладельческую систему и объединялись с ростовщиками и олигархами ради защиты частной собственности от «анархии» и черни. Существует множество проявлений этого процесса, который постоянно происходит под самыми различными масками. Энгельс считал режим Бисмарка в Германии одним из вариантов бонапартизма:
«Бонапартизм является необходимой государственной формой в такой стране, где рабочий класс, который достиг в городах высокой ступени своего развития, но в деревне численно перевешивается мелким крестьянством, оказался побежденным в великой революционной битве классом капиталистов, мелкой буржуазией и армией. Когда во Франции парижские рабочие были побеждены в гигантской битве в июне 1848, одновременно и буржуазия была совершенно истощена этой победой. Она сознавала, что второй такой победы выдержать не сможет. Номинально она еще господствовала, но была слишком слаба для господства. На первый план выдвинулась армия,— настоящий победитель, — опирающаяся на класс, из которого она преимущественно рекрутировалась, на мелких крестьян, желавших отдохнуть от городских смутьянов. Формой этого господства был, само собой разумеется, военный деспотизм, его естественным шефом — прирожденный наследник его, Луи Бонапарт.
Отношение бонапартизма как к рабочим, так и к капиталистам характеризуется тем, что он препятствует им наброситься друг на друга. Это означает, что он защищает буржуазию от насильственных нападений рабочих, поощряет мелкие мирные стычки между обоими классами, а во всем остальном лишает как тех, так и других всяких признаков политической власти. Ни права союзов, ни права собраний, ни свободы печати; всеобщее избирательное право — но под таким бюрократическим гнетом, что оппозиционные выборы почти невозможны; засилие полиции, невиданное до сих пор даже в полицейской Франции. Наряду с этим происходит прямой подкуп некоторой части как буржуазии, так и рабочих; первых — путем колоссальных кредитных мошенничеств, при помощи которых деньги мелких капиталистов перекочевывают в карманы крупных; вторых — путем колоссальных государственных строительных работ, которые рядом с естественным, самостоятельным пролетариатом концентрируют в больших городах пролетариат искусственный, связанный с империей, зависимый от правительства. Наконец, льстят чувству национальной гордости посредством мнимо-героических войн, которые, однако, всегда ведутся с высочайшего дозволения Европы против общего в данный момент козла отпущения, да и то лишь при том условии, что победа заранее обеспечена».136
Троцкий также много писал о бонапартизме, который описывал как ситуацию, в которой государство поднимается над обществом:
«Правительство, поднимающееся над нацией, не висит, однако, в воздухе. Реальная ось нынешнего правительства проходит через полицию, бюрократию, военщину. Перед нами военно-полицейская диктатура, слегка еще прикрытая декорациями парламентаризма. Но правительство сабли, в качестве третейского судьи нации, это и есть бонапартизм.
Сабля сама по себе не имеет самостоятельной программы. Она есть орудие «порядка». Она призвана охранять то, что существует. Поднимаясь политически над классами, бонапартизм, как и его предшественник, цезаризм, в социальном смысле, был всегда и остается правительством наиболее сильной и крепкой части эксплуататоров; нынешний бонапартизм не может быть, следовательно, ничем иным, как правительством финансового капитала, который направляет, вдохновляет и подкупает верхи бюрократии, полицию, офицерство и печать».137
Понятие бонапартизма очень растяжимо и вбирает в себя множество различных вариантов. В 1934 году, видя укрепление Гитлера в Германии, Троцкий писал:
«Такие понятия, как либерализм, бонапартизм, фашизм, имеют обобщенный характер. Исторические явления никогда не повторяются полностью. Не стоило бы труда доказать, что даже правительство Наполеона III, если сравнивать его с режимом Наполеона I, не было «бонапартистским», — не только потому, что сам Наполеон III был по крови сомнительным Бонапартом, но и потому, что его отношение к классам, особенно к крестьянству и люмпен-пролетариату, было совсем не то, что у Наполеона I. К тому же классический бонапартизм вырос из эпохи грандиозных военных побед, которых вторая империя совершенно не знала. Но если искать повторения всех черт бонапартизма, то обнаружится, что бонапартизм есть единовременное и неповторимое явление, т. е. что бонапартизма вообще нет, а был некогда генерал Бонапарт, родом из Корсики. Немногим иначе дело обстоит с либерализмом и со всеми другими обобщенными понятиями истории. Когда говоришь, по аналогии, о бонапартизме, надо поэтому указывать, какие именно черты его нашли в данных исторических условиях наиболее полное выражение».138
Заключение
История может идти не только по восходящей, но и по ниспадающей линии. При Империи Рим вступил в затяжной нисходящий период, который затянулся на четыре с лишним века и, в конечном итоге, привел к полному краху, регрессу и варварству. Человеческая цивилизация была отброшена назад минимум на тысячелетие. Окончательную причину упадка и крушения римской державы нужно искать в противоречивом характере рабовладельческой экономики — но этот вопрос выходит за рамки этой работы.
В первом десятилетии XXI века импотенция капитализма грозит обществу возвращением в варварство. Все признаки старческого распада социально-экономической системы налицо. Стратеги капитала уже начали сравнивать нынешнюю ситуацию с временами поздней Римской империи: экономический кризис выражен также в кризисе культуры, этики, политики и религии.
Многие люди, не понимая глубинных причин нынешнего кризиса, чувствуют, однако, что общество забрело в тупик, что-то идет не так, что весь мир словно сошел с ума и приближается какая-то глобальная развязка. Подобные чувства часто посещали и жителей Рима времен упадка. Мистицизм и сверхъестественные верования владели умами. Никто больше не верил в старых богов, храмы стояли пустыми, в то время как страну наводнили религиозные культы Востока, среди которых было и христианство. В сущности, так есть и сегодня.
В жизни нашей «демократической» политической системы можно отыскать немало интересных параллелей с предсмертной агонией Римской республики. В эпоху упадка республики доступ к власти открывался только при наличии огромных сумм денег. В нашей современной Империи, Соединенных Штатах Америки, формально демократический пост президента, на деле, доступен лишь для миллиардеров или их ставленников. Правда, они больше не поливают конкурентов ведрами нечистот. Вместо этого у них есть монополия на «свободную прессу», способную вымазать противников грязью, очернить их имя и разрушить репутацию. Это намного более эффективно, чем ушат жидких удобрений!
В передовых странах Европы, в Северной Америке и Японии люди свято верят в преимущества демократии. Такое положение дел считается за норму. На самом деле это редкое историческое исключение: оно стало возможным только в пору долгого капиталистического подъема, который позволил правящему классу развитых стран (но далеко не всего мира) пойти на уступки, сдерживавшие классовую борьбу в умеренных рамках. Но этот период завершился. Мы вступили в глубочайший кризис с 1930-ых годов — а в некотором отношении и крупнейший за всю историю капитализма. Впереди лежат годы, а возможно, и десятилетия скудости, болезненного спада жизненного уровня и урезания демократических прав. Это вернейший путь к беспримерному накалу классовой борьбы. В конечном счете, выбор невелик: социализм или варварство.
Римское государство превратилось в подлинного монстра — власть, взгромоздившаяся на горб общества и отчуждающая себя от него. Но оно было наивной игрушкой в сравнении с современным государством, которое было усовершенствовано империализмом — чудовищным Левиафаном, состоящим из бесчисленных армий бюрократов, солдат, полиции, спецслужб, тюремщиков и судей, которые помыкают обществом и поглощают неслыханные богатства, созданные рабочим классом. Юлий Цезарь вел кровавые и безжалостные войны, однако он и и не грезил о разрушительной мощи современных армий, которые уничтожили по крайней мере 65 миллионов мужчин, женщин и детей в одной только Второй мировой войне.
Продвинулись ли мы хоть на шаг вперед? Был ли у двухтысячелетней истории хоть какой-либо смысл, кроме повторения прошлых безумств, но в значительно большем масштабе? Автор «Истории упадка и крушения Римской империи»139 отвечает на эти вопросы отрицательно. Марксисты не разделяют столь пессимистичного взгляда. Несмотря на все преступления, насилия, войны и жестокости, пережитые человечеством, история — это прогресс, в самом глубоком и научном смысле слова. Развитие производительных сил, сначала при рабовладении, затем при феодализме и, наконец, при капитализме, заложило материальные основы для новой и качественно более высокой стадии человеческого общества — социализма.
Римляне называли рабов «говорящими орудиями». Сегодня изумительные достижения науки и техники, если разумно использовать их в социалистической плановой экономике, могут навек искоренить рабство и создать условия для того, что Энгельс назвал «прыжком человечества из царства необходимости в царство свободы». Нынешний пролетарий, сведущий в марксистском методе, оглядываясь в прошлое, видит не только «перечень ошибок и преступлений», но и фактическое развитие, готовящее путь к социализму. Он находит вдохновение в героической борьбе Гракхов — и, прежде всего, величайшего из бунтарей древности — Спартака. И из научного понимания классовой борьбы прошлого мы извлекаем необходимые уроки, чтобы подготовить почву для будущей победы.
-
Алан Вудс, «Большевизм на пути к революции». ↩︎
-
Карл Маркс, «Критика политической экономии». ↩︎
-
Карл Маркс, «Критика политической экономии». ↩︎
-
Ф.Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Плиний, «Естественная история» XXXI. ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Л. Д. Троцкий, «История Русской Революции». ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга I, гл. 43). ↩︎
-
Майкл Грант, «История Рима». ↩︎
-
Моммзен, «История Рима» (Книга I, гл. XI). ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга II, гл. 23). ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга II, гл. 23). ↩︎
-
Даниэль де Леон, «Две страницы из римской истории». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Тит Ливий, История Рима от основания города (Книга III, гл. 52). ↩︎
-
Тит Ливий, История Рима от основания города (Книга III, гл. 52). ↩︎
-
Тит Ливий, История Рима от основания города (Книга III, гл. 52). ↩︎
-
Тит Ливий, История Рима от основания города (Книга III, гл. 59). ↩︎
-
Тит Ливий, История Рима от основания города (Книга III, гл. 59). ↩︎
-
Майкл Грант, «История Рима». ↩︎
-
Майкл Грант, «История Рима». ↩︎
-
Майкл Грант, «История Рима». ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга IV, гл. 58). ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга IV, гл. 59). ↩︎
-
Тит Ливий, «История Рима от основания города» (Книга IV, гл. 60). ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
«Воспоминания о Марксе и Энгельсе». ↩︎
-
Полибий, Всеобщая история (Книга III, гл. 6). ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Карл Каутский, «Происхождение христианства» (Рабская экономика, домашние рабы). ↩︎
-
Диодор Сицилийский, Историческая библиотека. V. 36, 38. ↩︎
-
Моммзен, «История Рима» (Том I, кн. II, гл. II) ↩︎
-
Карл Каутский, «Происхождение христианства» (Рабская экономика, Рабство в условиях товарного производства). ↩︎
-
Кстати,английское слово «семья» — family — происходит от этого слова, означавшего группу рабов. ↩︎
-
Моммзен, «История Рима» (Том I, кн. III, гл. XII). ↩︎
-
Моммзен, «История Рима» (Том I, кн. III, гл. XII). ↩︎
-
«Жалоба бедного против богатого» из псевдоквинтилианского собрания речей. ↩︎
-
Карл Каутский, «Происхождение христианства» (Рабская экономика, Рабство в условиях товарного производства). ↩︎
-
К. Маркс, «Капитал» т. I (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 208.). ↩︎
-
Карл Каутский, «Происхождение христианства» (Рабская экономика, Техническая отсталость рабского хозяйства). ↩︎
-
А. Вудс, «Спартак — подлинный представитель древнего пролетариата». ↩︎
-
Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» (Кн. XXXIV. Гл. 2.). ↩︎
-
Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» (Кн. XXXIV. Гл. 2., §16). ↩︎
-
Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» (Кн. XXXIV. Гл. 2.). ↩︎
-
Вероятно, сюда включены также женщины и дети. — Автор. ↩︎
-
Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» (Кн. XXXIV. Гл. 2.). ↩︎
-
Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека» (Кн. XXXIV. Гл. 2.). ↩︎
-
Моммзен, «История Рима», т. 2, кн. 4, гл. 2. ↩︎
-
Плутарх, «Жизнеописание Тиберия Гракха». ↩︎
-
К. Маркс, «Капитал», т. I, (К. Маркс, Ф. Энгельс, СС, т. 23, стр. 91). ↩︎
-
К. Маркс и Ф. Энгельс, «Манифест Коммунистической партии». ↩︎
-
Цицерон, «Письма». ↩︎
-
Цицерон, «Письма». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Аппиан, «Гражданские войны», кн. I. ↩︎
-
Марк Туллий Цицерон, О законах, кн. III (X, 23). ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Аппиан, «Гражданские войны», кн. I. ↩︎
-
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания: Тиберий и Гай Гракхи». ↩︎
-
Equites. ↩︎
-
Comitia tributa. ↩︎
-
Lex de civitate sociis danda. ↩︎
-
Моммзен, «История Рима». Кн. IV «Революция». ↩︎
-
Моммзен, «История Рима». Кн. IV «Революция». ↩︎
-
К. Маркс, «Гражданская война в Северной Америке», СС 2-ое изд., т. 15, стр. 345. ↩︎
-
Equites. ↩︎
-
Judices. ↩︎
-
Т. Момзен, «История Рима», т. IV, гл. VI. ↩︎
-
Т. Момзен, «История Рима», т. IV, гл. VI. ↩︎
-
Т. Момзен, «История Рима», т. IV, гл. VI. ↩︎
-
Т. Момзен, «История Рима», т. IV, гл. VI. ↩︎
-
В. И. Ленин, «Государство и революция». ↩︎
-
Фридрих Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Аппиан, Гражданские войны, кн. I. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. VII. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима». ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. X. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. X. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. X. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. XI. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. XI. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. X. ↩︎
-
Т. Моммзен, «История Рима», кн. IV «Революция», гл. XII. ↩︎
-
А. Вудс, «Спартак — подлинный представитель древнего пролетариата». ↩︎
-
Саллюстий, «О заговоре Катилины». ↩︎
-
Саллюстий, «О заговоре Катилины». ↩︎
-
Саллюстий, «О заговоре Катилины». ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
«От Марка Целия Руфа Цицерону, в провинцию Киликию», «Письма Марка Туллия Цицерона близким», VIII, 14. ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Лукан, «Фарсалия, или поэма о гражданской войне» кн. VII. ↩︎
-
Лукан, «Фарсалия, или поэма о гражданской войне» кн. VII. ↩︎
-
Место где Сулла умертвил шестьсот пленных, которым была обещана пощада. ↩︎
-
Лукан, «Фарсалия, или поэма о гражданской войне» кн. VII. ↩︎
-
Лукан, «Фарсалия, или поэма о гражданской войне» кн. VII. ↩︎
-
Майкл Грант, «Юлий Цезарь. Жрец Юпитера». ↩︎
-
Рональд Сайм, Римская революция. ↩︎
-
Этот календарь, известен как Юлианский и также включал в себя високосный год с 366 днями. ↩︎
-
Достоинство, авторитет. ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Марк Туллий Цицерон, «Письма Марка Туллия Цицерона», Fam., VII, 30. ↩︎
-
В силу самого этого факта. ↩︎
-
Уильям Шекспир, «Юлий Цезарь». ↩︎
-
Майкл Грант, «История Рима». ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
Слово imperator, латинский военный термин для обозначения победоносного генерала, является источником нынешнего термина император. ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
Партию Брута и Кассия. ↩︎
-
Рональд Сайм, «Римская революция». ↩︎
-
Л. Троцкий, «Германская загадка». ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Происхождении семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
К. Маркс, «18 брюмера Луи Бонапарта». ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Происхождении семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Происхождении семьи, частной собственности и государства». ↩︎
-
Тед Грант, «Анти-Клифф». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
Л. Троцкий, «Преданная революция». ↩︎
-
Гегель, «Философия истории». ↩︎
-
К. Маркс, Ф. Энгельс, «Манифест Коммунистической партии». ↩︎
-
Ф. Энгельс, «Прусский Военный Вопрос и немецкая Рабочая партия». ↩︎
-
Л. Троцкий, «Бонапартизм и фашизм». ↩︎
-
Л. Троцкий, «Немецкий бонапартизм». ↩︎
-
Эдуард Гиббон, «История упадка и крушения Римской империи». ↩︎